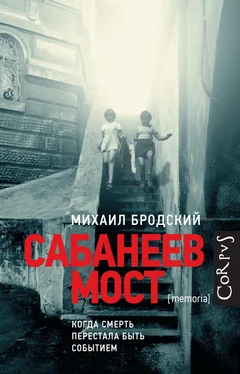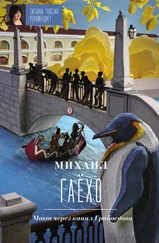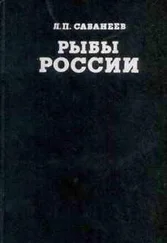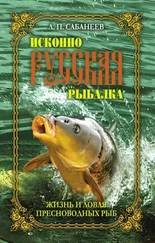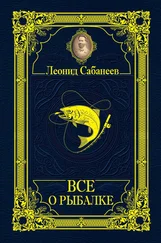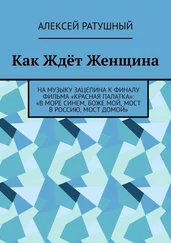В Швейцарии мы, конечно, не только работали, но и смогли поездить по стране. Однажды в воскресенье Жорж предложил поехать в Лихтенштейн в гости к потомку основателей заповедника в Аскании-Нова барону Фальц-Фейну, с которым он был в дружбе.
– Но у нас же нет визы Лихтенштейна, – возразил Лукьянов.
– Граница существует номинально. Паспорта не проверяются.
– А если что-то случится в дороге и будет проверка документов? Кроме того, нас могут не пустить обратно в Швейцарию. Будет скандал и колоссальные неприятности, – сказал осторожный Лукьянов. – Это невозможно.
Он, к сожалению, был прав. Все же не зря к легкомысленным техническим специалистам был приставлен многоопытный внешторговец.
Наступил день отъезда, и, собираясь в аэропорт, я попрощался с владельцем нашей маленькой гостиницы. Франц был не только хозяин, он был и портье, и кассир, и бухгалтер, и бармен. Утром он готовил нам завтрак, и каждое утро у нашего столика в большой керамической вазе стоял букет или, вернее, охапка свежих роз.
– У вас здесь чудесно, – сказал я. – Если приедем еще раз, обязательно остановимся у вас.
– Я надеюсь, вам понравился не только отель, но вообще наша страна, – сказал Франц.
– Да, очень, – ответил я. – Мне кажется, у вас здесь нет никаких проблем.
– Ну что вы! Жизнь без проблем не бывает. Здоровье, деньги, семейные сложности… Редко можно встретить беззаботного человека.
– Нет, я имел в виду общенациональные проблемы.
Франц задумался.
– У нас слишком часто идет дождь, – сказал он наконец серьезно.
Глядя в иллюминатор на исчезающие альпийские луга и Боденское озеро, я предался грустным размышлениям. Только теперь, в середине своего шестого десятка, получив возможность часто бывать за границей и общаясь с разными людьми на своем, хотя и бедном, английском, я в полной мере понял, как обокрала советская система жизнь мою и моих соотечественников. Какое, должно быть, счастье жить в мире, где можно свободно перемещаться из страны в страну по собственному желанию, не спрашивая разрешения компетентных органов, где можно без особых проблем сменить род занятий, где предметы первой необходимости покупаются, а не добываются, и их перечень не исчерпывается мылом, солью и спичками, производство которых постоянно держал на контроле премьер Косыгин.
Я вспомнил недавний разговор в Праге с нашим инженером, прикомандированным к советскому торгпредству. Инженер, интеллигентный и любознательный человек лет сорока, приехал из Якутска и курировал поставки техники для нашей алмазодобывающей промышленности. За полгода жизни в Чехословакии он выучил чешский язык и показывал мне и моим коллегам Прагу.
– Вы не поверите, – говорил он, – я плакал здесь настоящими слезами. Вот как, оказывается, можно жить даже при социализме.
Я хорошо представлял себе жизнь в Якутске, потому что вряд ли она отличалась в лучшую сторону от жизни в Миассе. Приезжая на завод, я часто жил в гостинице на центральном проспекте недалеко от проходной и обычно вечером ужинал в гостиничном ресторане. Однажды, решив выпить чай у себя в номере, я зашел в большой гастроном, находящийся напротив гостиницы. Было около восьми часов, покупателей не было, полки были пусты, только на прилавке мясного отдела был выложен на поддоне комбижир неприятного желтого цвета, по поверхности которого кулинарным шприцем, как это делалось на провинциальных тортах, была выведена таким же комбижиром, но сиреневого цвета ликующая надпись «Вперед, к победе коммунизма!». Возможно, это была злая ирония, а может быть, острый приступ идиотизма.
Специалисты завода, прилетая в командировки в Москву, обратно всегда уезжали поездом, потому что увозили с собой коробки с продуктами. Главной задачей было разместить в холодном месте коробку с мясом, для чего требовалось построить правильные отношения с проводником. Я привозил обычно своим коллегам сыр, который в Миассе был экзотическим продуктом, а главный инженер всегда просил меня привезти лимоны.
– Даже я, – говорил он, – не могу их здесь достать.
При некотором воображении в этом можно было бы увидеть подобие социального равенства.
В эти трудные годы структура общества постепенно начала меняться. Теперь социальный статус человека определялся не только образованием, служебным положением и заработной платой, но и таким существенным обстоятельством, как возможность беспрепятственного доступа к источникам снабжения. Криминальный привкус понятия «нетрудовые доходы» стал уходить в прошлое. Как-то раз я стал свидетелем незабываемой сцены. В небольшой очереди на станции автосервиса я ждал оформления регламентного обслуживания. Впереди меня стоял человек средних лет и мощного телосложения, одетый дорого, но безвкусно. Его машине требовался ремонт, и он о чем-то негромко разговаривал с работником станции. Внезапно он негодующе повысил голос:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу