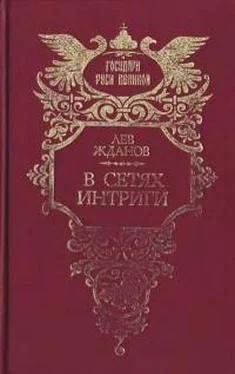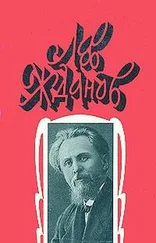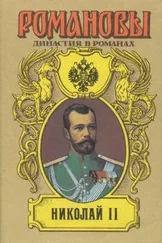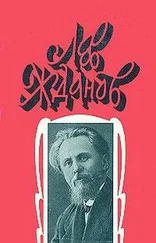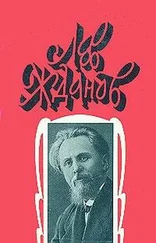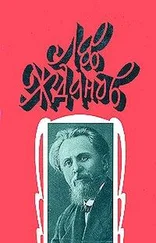— Ну и немцы!
— Тёплая компания… Марьяж дорогой!.. Вестимо, все — бироны! На одну колодку шиты… На одну бы их осину!..
— Энтих не простят, нет! Шалишь!..
Так загомонили со всех сторон.
— «И постановили: предать их всех смертной казни от руки палача». Но милостивейшая государыня императрица, как мать, снисходя к заблуждениям человеческим, повелела: «Приговор прочтя, в исполнение оного не приводить, сослав виновных по дальним местам Сибири». Ведите осуждённых обратно! — торопливо приказал он офицеру, испуская невольный вздох облегчения. Сам быстро спустился с помоста и исчез за воротами коллегий.
— Налево кру-гом. Шагом… арш! — скомандовал начальник конвоя.
Шествие в том же порядке двинулось обратно.
Но толпа решила вмешаться в дело.
— Как, и этих всех простили! — раздались голоса.
— Все немецкие штучки… При новой государыне немцев тоже не мало!..
— Наших небось казнили без милости! Волынскому, боярину истому, заступнику и зиждителю церкви Божией, руки, ноги секли! — вопил какой-то, с виду дьячок или заштатный попик, сильно нетрезвый даже в этот ранний час. — Рубите и этих злодеев!.. Бироновых налётов, со всем кодлом ихним!
— Не пущай их, робя! А ты, красная рубаха, — обратились из толпы к палачу, — пошто зевал? Руби! Не пустим их!..
Толпа стала напирать на цепь солдат, стараясь добраться до преступников, чтобы расправиться самосудом с «биронами»…
Полковник, видя, что медлить нельзя, дал знак сигналисту.
Заиграл рожок, зарокотали барабаны.
— Ру-жьё наперевес! — раздалась команда по рядам.
Штыки, направленные во все стороны, как стальные иглы огромного дракона, — остановили натиск толпы, сразу отхлынувшей назад.
— Ишь! На своих и штыки нашлися!.. В каменья их! — заголосили в толпе.
— Не пущай злодеев… Вали, робя!..
— Расходитесь! Стрелять буду! — прорезал общий гул повелительный окрик полковника. — Труби, горнист! После третьего сигнала — будет огонь!.. Расходитесь!
Зазвучали снова рожки… Народ в нерешительности стал разбиваться на кучки.
Шествие, достигнув ворот, скрылось во дворе коллегий. Тяжёлые ворота захлопнулись с шумом.
Народ ещё долго не расходился на площади.
Глава VIII
В ДАЛЁКИЙ ПУТЬ
Ясным февральским утром солнце играло яркими пятнами на грязном полу, на тёмных нарах низкой, длинной проходной комнаты, на всей печальной обстановке каземата Петропавловской крепости, куда перед отправкой в путь собраны были все «преступники», прощённые милосердной государыней месяц тому назад у подножья позорного эшафота.
Тяжёлые двери, окованные железом, и три довольно больших, но забранных частою, толстою решёткою окна наводили тоску на душу каждого, кто попадал под своды этого каземата.
На холщовой кровати, вроде складных носилок, в своей шубке и картузе, ближе к окнам, лежит граф Остерман.
Ноги его покрыты толстым, тёплым платком, изредка тихие стоны срываются с его губ.
Графиня Остерман, жена его, седоволосая старуха, прямая и важная, сохранившая ещё в лице следы былой красоты, сидит у постели, то подавая пить больному, то оправляя ему подушки и не разлучаясь со своим вечным вязаньем. Она тоже одета по-дорожному, в тёмную меховую шубку, с валенками на ногах.
Михаил Головкин, как и другие, совсем готовый к выступлению, дремлет, прикорнув в углу на нарах.
Миних, опершись коленом на нары, загляделся на клочок ясного синего неба, которое голубеет в окно, выглядывая из-за высокой крепостной стены, темнеющей сейчас же за окнами.
Графиня Миних, в теплом капоре, в дорожной лисьей шубке, сидит рядом, держа в руках кофейник и небольшой ридикюль, шитый бисером.
Лицо её ясно. Она, спокойно улыбаясь, толкует с мужем о будущей поездке в далёкий, суровый край. И только изредка, незаметно для мужа, старается поскорее смахнуть непрошеную слезу, набежавшую на ясные, ещё красивые глаза графини.
Бывший чарователь двора, красавец и донжуан Райнгольд Левенвольде, сидя поодаль на нарах, возится там, что-то увязывая в узелок и снова развязывая его, перекладывая поудобнее вещи, собранные в этом узелке. Грязное, изодранное платье, короткий тулупчик, большая седая борода, спадающая на грудь, воспалённые глаза, всклоченные волосы, не покрытые ничем, — всё это так не похоже на прежнего богача-щёголя, общего любимца дам…
Вдруг, оставив свою возню с узелком, словно припомнив что-то печальное, тяжкое, он упал на нары ничком, глухо зарыдав. Потом умолк, выпрямился, отёр лицо, мокрое от слёз, и снова продолжал свою возню с грязным узелком.
Читать дальше