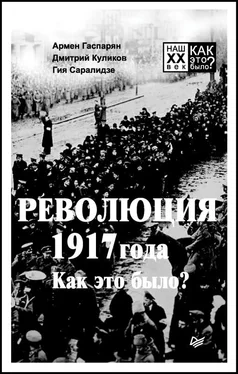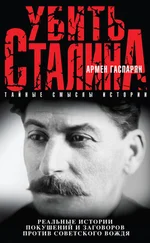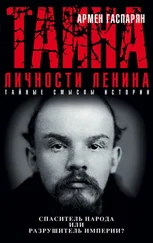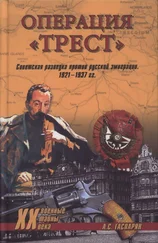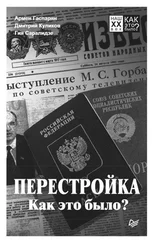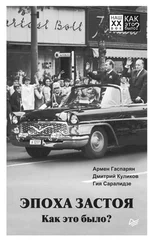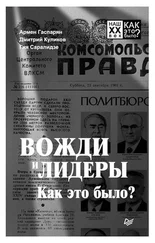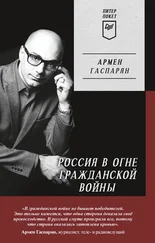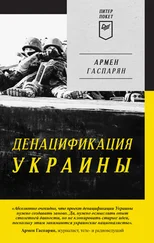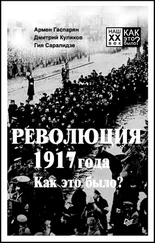Г. Саралидзе:Тут надо сказать, что во время Гражданской войны как раз наоборот, города опустели, потому что есть нечего было. Это очень хорошо в художественной литературе отражено. Голодный город – и люди уезжают, а в деревнях, особенно в зажиточных…
Д. Куликов:Хлеб с молоком.
Г. Саралидзе:Животина какая-то.
Д. Куликов:А если сало есть, так это же вообще!
Г. Саралидзе:Для городского жителя, который уже непонятно чем питался, – конечно. Понятно, что с теми процессами, которые начали происходить, люди стали возвращаться.
Д. Куликов:Кстати, интересно, как советская культура на это смотрела, ведь трудности и режим сверхэксплуатации на стройках первых пятилеток никто не приукрашивал. Наоборот, довольно честно отображали…
Г. Саралидзе:Да. «Как закалялась сталь» можно почитать, чтобы понять, в каких условиях люди работали.
Д. Куликов:Почитайте в этой книге про строительство узкоколейки. Вот примерно так проводилась индустриализация.
Г. Саралидзе:Когда я разговариваю с молодыми людьми и привожу это произведение в пример, говорю: «Это ж почти документальная вещь». Сейчас энтузиазм только в том, чтобы на какое-то теплое место устроиться. Нет идеи, которая бы вдохновила, которая должна быть, на мой взгляд, у молодых людей, потому что даже у нашего поколении она была. Хотели тоже что-то изменить, да? И чего-то грандиозного. Сейчас этого нет.
А. Гаспарян:Сейчас другое. Извини, что я тебя перебиваю. Сейчас в некоторых книжных магазинах «Как закалялась сталь» продается в разделе «Фантастика». Это просто для понимания.
Г. Саралидзе:Серьезно?
А. Гаспарян:Абсолютно.
Г. Саралидзе:Так вот, когда я говорю молодым людям об этом романе, у них возникает вопрос:
«Ну прочли, а зачем?» И мы начинаем с выстрела Авроры. Вообще я хотел бы подчеркнуть как раз то, что связано с энтузиазмом. Мне довелось несколько раз участвовать в дискуссиях по поводу нынешней молодежи и того, как она относится к жизни, почему уходит в одну сторону или в другую, почему поддерживает те или иные политические высказывания и действия. На мой взгляд, отсутствие идей планетарного масштаба, масштаба великой большой страны, каких-то великих строек и ощущения, что ты живешь в той стране, которая ставит перед собой грандиозные задачи, нет, и его очень сильно не хватает.
Д. Куликов:И это не случайно. То, о чем ты говоришь, целенаправленно уничтожалось как подход. Извините, я опять в свое пространство полезу философское. Если взять постмодернизм в целом, как последнее философское течение, он утверждает: «Будьте свободны от дискурсов! К черту все дискурсы! Будьте совершенно свободны!» У населения ума не хватает задать вопрос: «А быть свободным от дискурса – это же тоже дискурс?» И кто больше тобой управляет: тот, кто публично, прямо провозглашает идею, идеологию, цель, или тот, кто говорит: «Да на фиг всё, живите так!» Понятно, что второе вроде как симпатичней, но не закрадывается ли сомнение, что это и есть самый грубый и самый циничный способ использовать людей. Вот же где, как говорят, собака зарыта.
Г. Саралидзе:Да, согласен.
Многие говорят и пишут о том, что индустриализация состоялась во многом благодаря помощи Запада. Что по этому поводу, Армен?
А. Гаспарян:Ну правду говорят, действительно…
Д. Куликов:Только слово «помощь» давайте расшифруем.
А. Гаспарян:Помощь эта была небескорыстная. От слова «совсем». Абсолютно за все мы платили. Но действительно, мы использовали западные технологии, к нам приезжали инженеры с Запада: из Германии, из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании, откуда только можно. Ничего зазорного в этом нет: давайте вспомним те условия, в которых мы тогда находились. Великое множество людей были убиты или выгнаны из страны в результате Гражданской войны. Грамотных кадров не хватало. Кроме того, пока мы с завидным упорством уничтожали все, что у нас было, технология на Западе шла вперед. Где нам ее еще было брать, кроме как непосредственно у проклятых капиталистов. Здесь другая беда: мы платили за это зачастую втридорога.
Из нас вытягивали всю кровь… То древесиной не нужно расплачиваться, потому что, оказывается, на каком-то бревнышке было написано некое послание, которое было растолковано следующим образом: это узники всевозможных лагерей отправляют сигнал, насколько им плохо. Потом они не стали принимать золото, потом проблема с хлебом, и так далее. То есть Запад, конечно, мечтал этому всему помешать. Другой вопрос, что для западного обывателя стало откровением то явление, которое они впоследствии назовут в своей историко-философской (хотя тут «философской» я бы под большим знаком вопроса поставил) литературе как коммунистический фанатизм. То есть они впервые увидели, что люди могут отдавать буквально всех себя ради какой-то такой сверхцели и сверхзадачи, второй раз они это увидят уже в годы Великой Отечественной войны. Если посмотреть западную печать того времени, там обязательно будут фотографии, мол, смотрите, коммунистические фанатики, как муравьи, бегают, чего-то строят, чего-то пытаются делать и создают плацдарм для мировой революции. Еще Троцкий в своих работах объяснял, для чего все это надо. «Днепрогэс» нужен был для чего? Чтобы получить алюминий. Алюминий нужен для чего? Чтобы сделать самолет и бомбить Запад. Вот как можно все упростить. Все эти теории тогда впервые прозвучали, потому что наши «друзья» поляки, которые, как они говорили, лучше всех знают жизнь в Советском Союзе, сразу сказали, что все заводы – это военный контур, ждите русских варваров в Европу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу