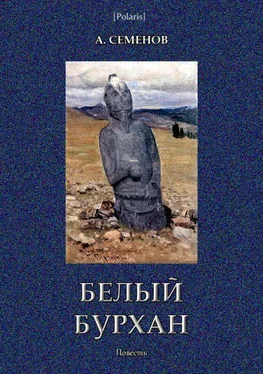Никто не помогал мне распространять новую веру. Как огонь, охватило Алтай, что я видел такого человека, который велел верить по-новому. По новой вере лучше: лошадей не колем, каму не платим. Мы считаем, что Бог на небе, а солнце и луна лучше чертей.
Бурхан сотворил землю. Солнце и луну мы считаем вместе с богом, хотя, может быть, Бурхан сотворил и солнце и луну. Кто сотворил людей — не знаю, может быть, Бурхан. По старой вере никаких запретов для поведения не было и теперь тоже нет. Как было заведено издревле, так и сейчас. Убивать грех по новой и старой вере. Мы считаем, что Бог один у всех людей и не думаем, что надо избивать тех, кто не верит по-нашему».
Не шелохнутся широкие лапы столетних елей и пихт, похожих на остроконечные колокольни и минареты.
Вершины кедров точно застыли.
Играет бриллиантами зимнее солнце в куржаке на ветвях берез и арках ольх и щедро льет холодные лучи на девственно чистый, снежный покров лесных полян.
Морозит.
Тихо.
Поскрипывают лишь легкие лыжи где-то у подножья лесных гигантов.
То идет на охоту охотник, ясачный черневой татарин [15] «Черневыми татарами» именовали тубаларов, один из коренных народов северного Алтая, иногда телеутов или ойратов. «Ясачными» назывались представители народов Сибири и севера России, платившие ясак (натуральный налог) пушниной или деньгами ( Прим. сост .).
Ахъямка.
Идет и гнусаво тянет себе под нос:
— Уй-я-а, уй-я, гора какой долгой, лес кругом далеко пошел… Уй-я-а…
Поднимается на безлесные хребты, окидывает равнодушным взглядом широко раскинувшиеся, залитые солнцем таежные горы и подернутые голубой дымкой дали, потом поправляет путы лыж и, сообразив направление, катится на своих быстрых «камасных» лыжах с кручи.
Гибкий «каек» взрывает снег. В ушах свистит ветер, а навстречу бежит бор — сплошная темная заросль вековых гигантов и поглощает Ахъямку огромной черной пастью.
* * *
Ахъямка весел.
После долгих ухаживаний и неудачных попыток ему удалось сегодня утром поймать Лушку в охапку, прижать ее к себе и поцеловать.
Лушка — девка лет тридцати, приехавшая недавно в стряпки к управляющему прииском, — была толстая, некрасивая и рябая. Но она как-то сразу победила двадцатилетнее Ахъямкино сердце. Ахъямка стал особенно часто ходить на охоту и почти всю битую птицу нес на кухню управляющего.
Там он подолгу сидел в углу у двери и смотрел на Лукерью, как она, высоко подтыкав юбку, мыла кухню или, засучив рукава кофты и обнажив пухлые белые руки, стряпала управляющему вкусные блюда.
Ахъямке делалось жарко. Он потел, утирал грязным рукавом старого азяма пот и говорил старику-дровоколу Осипу:
— Карюш депка, жирнай!..
Рабочие казармы, в которой жил и Ахъямка, сразу заметили его любовь и загоготали:
— Че, Ахъямка, скоро жениться будешь? Го, го, го!..
Некоторые с деланной серьезностью учили:
— Ты, паря Ахъямка, с исподтишка подъезжай к ей. Она девка матерая, ежели звезданет по уху, так не шибко поглянется!
И, насмешливо оглядев тщедушную фигуру Ахъямки, продолжали:
— Она ненароком тебя соплей пополам перешибить может.
Но Ахъямка не замечал насмешки.
В своей наивности полудикаря он верил, что рабочие дают ему дельные советы.
А казарма подготовлялась к самому смешному.
Сначала Ахъямке долго говорили о достоинствах Лушки, причем касались самых интимных подробностей и, наконец, под едва сдерживаемый хохот казармы, заранее предвкушавшей веселье, конюх Мартын говорил:
— А што, Ахъямка, тебе-то глянется Лушка?
Тогда глаза Ахямки, подернутые и без того маслом, окончательно закрывались от удовольствия, он потел и, смешно расставив руки с растопыренными пальцами, точно собираясь ваять ими что-то крупное, говорил:
— Карюш депка, жирнай!..
Взрыв хохота сопровождал эти слова, только Мартын крепился и спрашивал:
— Жирный, говоришь?..
Но тут обыкновенно и он не мог сдержаться и казарма долго тряслась от хохота, но Ахъямка, сообразив, наконец, что сказал что-то смешное, обижался, брал ружье и уходил на охоту.
Сегодня Лушка сама прибежала к нему в казарму, когда весь народ был на работе, и сказала, чтоб он принес дичи.
— Гости, вишь, будут. Барыня пашкетный пирог заказала, чтоб с рябчиками.
И вот тогда-то Ахъямка изловчился, поймал Лушку в охапку, прижал ей руки и долго, взасос, поцеловал.
Правда, Лушка смазала его за это кулаком по лицу, назвала татарской образиной и убежала, но при том никого не было, никто не засмеялся и Ахъямка был доволен собой.
Читать дальше