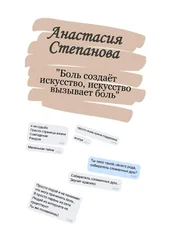Бокенбай молча кивнул и подал знак своему другу-певцу.
Тот ударил по струнам черной домбры, извлекая из нее глухие, рокочущие звуки. Нарастая, мелодия рокотала, как волны разбушевавшейся реки, в ней вскипала боль утрат, пламень исстрадавшейся души.
Подхватили все ставшую уже любимой песню, люди узнали в наигрыше певца скорбный мотив «Елим-ай!».
Изможденные лица посветлели, каждый словно говорил себе: «Нельзя падать духом, надо надеяться и верить. Зови же нас вперед, мечта о счастье! Укажи дорогу мести, распрями наши согбенные плечи…»
— Отец, я внимал тебе с радостью, я не увидел здесь покорных людей, смирившихся с невзгодами, — сказал Бокенбай. — Я словно чистой воды напился, почерпнул свежие силы. Я увидел решимость на ваших лицах, мужественное желание обуздать зарвавшихся дикарей, налетевших как чума с Пестрых гор. Тяжелые испытания не сломили вас, я горжусь вами, мои соотечественники! Я не краснобай, мои слова — стальные стрелы, разящие врага. Все, что накопилось в моей душе, ты высказал за меня. А еще лучше сказала о справедливом гневе народном наша боевая песня «Елим-ай!». Так давайте внемлем ее призывному набату и сплотимся под общим знаменем! Из маленьких речек вырастает море, помните об этом!
После скромной трапезы люди разошлись. На степь опустилась вечерняя прохлада, алая заря укрыла шелковистые травы.
Бокенбай направился к холму за аулом. Ему нужно было переговорить с аксакалами о том, как собрать добровольные отряды, наметить место встречи народных мстителей. Как только батыр и его свита поравнялись с озером, в камышах раздался странный шорох. В тот же миг ехавший рядом с Бокенбаем молодой джигит вскинул лук и выпустил стрелу… В зарослях послышался стон.
Джигит побежал к камышам, туда же поспешил Бокенбай со своей охраной.
Какой-то щуплый человек лежал навзничь на земле, судорожно вцепившись в большой боевой лук. Тщетно он пытался вытащить стрелу, пронзившую ему грудь. Увидев юного джигита, человечек криво усмехнулся:
— Подстерег-таки, змееныш… Но я с лихвой отомстил за себя… Мне будет мягко спать на земляной перине. Жаль только… — Он дернулся и умолк.
Джигиты обступили мертвое тело. Бокенбай спросил юного богатыря:
— Ты знаешь его?
— Да, батыр. Это ойротский лазутчик и палач Габан-убаши.
— А ты кто будешь?
— Я Жоламан, внук Жомарт-батыра.
Бокенбай просиял.
— Не думал не гадал, что у славного тулпара остался потомок. — Он обнял юношу и расцеловал его. — Мне посчастливилось неоднократно сражаться бок о бок с незабвенным Жомарт-батыром. Теперь ты будешь при мне. Ты крепкий молодец! Недалек тот день, когда ты прославишься на поле брани. Оправдай надежды родины!
Жоламан широко улыбнулся, принимая доброе напутствие знаменитого батыра.
Минули два лета и две зимы, все это время Бокенбай не слезал с коня. Он побывал в Ходженте, где нашли приют беженцы из Старшего и Младшего жузов, и всегда его верной спутницей на тернистых дорогах жизни была пламенная песня «Елим-ай!», она сопутствовала батыру как неугасаемая надежда и неизменно, как добрая ласточка, возвращала его в казахскую степь, в родимое гнездо. Копыта его коня пронеслись по каменным плитам Самарканда, где томились изгнанники Среднего жуза, и там его встретила призывным кличем песня «Елим-ай!». В истерзанные, сломленные души его соплеменников героическая песня вливала мужество, веру в победу. В Хиве и Бухаре, на Эмбе и Яике, везде, где батыр собирал казахское войско, его доблестной спутницей была «Елим-ай!», как живая нить она тянулась от сердца к сердцу, сплачивала, объединяла соплеменников. Как яркая звезда горела песня на черном небосклоне лихолетья…
Во всех этих трудных и опасных поездках Бокенбая сопровождал Жоламан, он возмужал, стал суровым и немногословным, в нем почти ничего не осталось от веселого, задорного юноши.
Прошлой осенью Жоламан побывал на берегу Тобола. Его встретил густой запах пожелтевших трав, щемящий запах невозвратного детства. Глядя на седые волны Тобола, он вспоминал полузабытые картины далеких лет, черный сумрак беды, нависшей над отцовской юртой. Ему казалось, что он слышит глуховатый голос своего отца Суртая, ощущает ласку его загрубевших рук. Батыр был не щедр на внешние проявления чувств, хотя был человеком добрейшим из добрых… Жоламан смотрел на тропки, где некогда проходил воин и поэт. Он шептал сквозь слезы: «Вот я пришел, отец… Клянусь никогда не забывать тебя, до конца моих дней преклоняться перед памятью твоей…»
Читать дальше