Но сейчас, когда могила была относительно готова, последняя капля жизни, видимо, вспыхнула в парашютисте, и он стоял с лопатой наперевес, сжимая ее в руках.
Старик угрожающе поднял берданку. Наши девчонки, наверное, не понимавшие до этого, для чего роет немец землю (может быть, для того, чтобы похоронить убитых колхозниц и Люсю Волкову), теперь все поняли и с криком и плачем бросились бежать. Но мы, мальчишки, все остались стоять на месте.
Парашютист отбросил в сторону лопату, что-то хрипло крикнул и сделал шаг вперед.
И тогда хромой старик ударил его почти в упор, шагов с пяти, из своего бердана прямо в лицо. Парашютист закачался и упал. Старик подошел к нему вплотную, перезарядил ружье и выстрелил еще раз.
Потом он стянул с немца сапог, спихнул тело в яму и на скорую руку засыпал ее. Связал сапоги, забросил их на плечо и, ничего никому не сказав, деловито захромал из деревни.
А мы, московские школьники, деревенские бабы и мальчишки, как стояли на месте, глядя на все это, так и остались стоять. Чем объяснялось это? Жестокостью? Нет. Чувство справедливого отмщения за лежавших рядом на деревянных щитах невинно убиенных двух женщин и девочки было удовлетворено.
Парашютист был профессиональным военным, он знал, на что идет, когда прыгал с самолета в наш тыл. А женщины и Люся Волкова были убиты невинно. И это требовало немедленного отмщения.
И оно явилось с неслыханной быстротой, как в сказке, в образе хромого старика. И только свежеприсыпанная могила перед нами, в которой исчез только что светловолосый, широкоплечий человек, бывший живым две минуты назад, была не из сказки. И это было страшно, очень страшно. Это уже был переход за черту детства. На этом детство кончалось.
И с того самого дня, когда я, одиннадцатилетний, впервые в своей жизни присутствовал на казни человека и не ушел с нее, испытывая необходимую и настоятельную нравственную потребность все видеть от начала до конца своими собственными глазами, с того самого дня сердце мое заледенело и душа наглухо запахнулась, зачерствела на многие месяцы войны, а может быть, и после войны. И все это, наверное, и осталось у меня в глазах на фотографии сорок первого года.
…К вечеру в деревню за нами приехали из района три грузовые машины. Сюда из Москвы мы мчались с песнями на восемнадцати голубых автобусах, а отсюда выбираться должны были на трех грузовых машинах.
Всю ночь мы ехали по шоссе обратно на восток. Когда рассвело, над дорогой появились «мессершмитты». Мы разбежались по лесу, и учителя долго потом собирали нас по всему шоссе, и многие так и не вернулись на машины. Убило ли их, или они просто потерялись — маленькие, от первого класса до четвертого, — не знаю.
На следующую ночь наши учителя (после девяти бомбежек и обстрелов, в которые мы попали на шоссе) привезли нас, закостеневших в тупом равнодушии ко всему на свете, на какую-то железнодорожную станцию. Дальше на машинах было ехать бессмысленно — могли погибнуть все, а железная дорога защищалась все-таки зенитной артиллерией.
С огромным трудом наши учителя (на голове у некоторых из них появились седые пряди за последние сутки) договорились с начальником какого-то следующего в Москву товарного эшелона, и нас беспорядочно рассовали по теплушкам, в которых везли станки и скот. И те из нас, кто попал в скотные вагоны, в следующие два дня, которые мы тащились до Москвы, немного отогрелись и отошли душой около коров и лошадей.
Все железнодорожные станции по дороге на восток были охвачены пожарами. Несколько раз мы снова попадали под бомбежки, но из теплушек никто уже не выходил.
Ночью, когда мы подъехали к Москве, что-то сильно горело впереди нас. Огромное красное зарево кумачово разлилось по всему горизонту, и казалось, что это кровоточит вся Москва, вся страна, получившая тяжелое ранение своей кровеносной системы, но уже зажавшая рукой рану, уже набирающаяся новых сил, уже встающая, багрово и кумачово, во весь рост, до самого неба, для своего грозного отпора врагу.
Так что же такое была эта война, так неожиданно и круто ворвавшаяся когда-то в жизнь каждого из нас — и тех, кто еще живет, и тех, кто уже ушел?
Мне кажется, что я уже ответил для самого себя на этот вопрос.
Ответил, как мог.
А может быть, и не ответил…
Не ответил до самого конца, до беспощадной последней глубины, теряющейся где-то в районе бездонного загадочного мирового океана всеобщего и бесконечного человеческого бытия.
Читать дальше
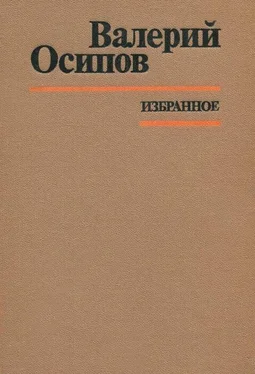
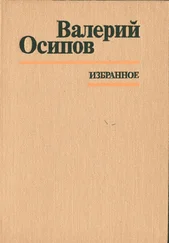
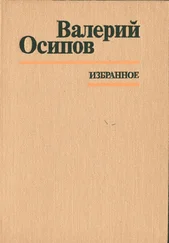
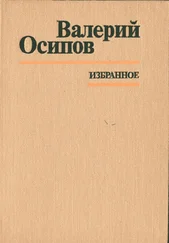
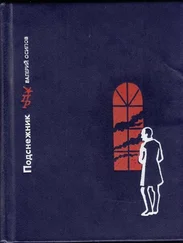
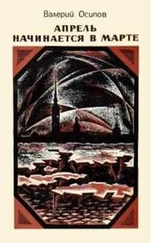
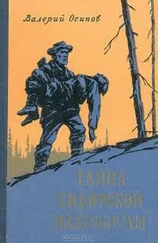


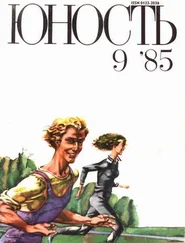
![Валерий Осипов - Солнце поднимается на востоке [Документальная повесть]](/books/404921/valerij-osipov-solnce-podnimaetsya-na-vostoke-doku-thumb.webp)

