Читатель, наверное, уже отметил, что из шести сестер Сигалаевых одно имя я только назвал, но ничего не рассказал о предпоследней дочери Кости и Клавы — о Тамаре.
Сделано это не случайно, потому что Это — очень личное.
Может быть об Этом я еще расскажу в другой книге.
Мы встретились с Тамарой несколько лет назад и теперь видимся часто. А до этого долго ничего не знали и не слышали друг о друге.
Этой встрече, наверное, и обязана своим рождением эта книга и все то, что хотел и мог я сказать о семье Сигалаевых, на что имел право в своем рассказе об этих людях.
Прощай, Преображенка!
Я прошел по твоим дорогам, по твоим тропинкам и травам, омытым росой памяти, столько, сколько мог, и нам пора расставаться.
Прощай и ты, детство… И по твоим тропинкам и травам, и по твоим далеким дорогам провела меня эта книга, и теперь ее пора заканчивать.
Все кончается когда-нибудь. Начинается и приходит к своему концу. Только жизнь бесконечна, только род человеческий на земле неистребим и беспределен.
Иногда, вспоминая свое детство, проведенное на северо-восточной окраине Москвы, я думаю о том, что еще в своей юности на Преображенке (и, конечно, в те годы, которые прошли в Уфе), задолго до начала моей взрослой жизни я узнал многие неопровержимые истины человеческого бытия.
Молодость, прошедшая на Преображенке, рано освободила меня от иллюзий. Она закалила меня в чем-то очень реальном и была моим университетом, моей высшей школой гораздо раньше окончания института. Был, например, такой случай. Однажды на излете своего среднего образования я вдруг загорелся желанием учиться на актера. Выбор пал на училище имени Щукина при Вахтанговском театре. Я добросовестно записался на экзамены, сдал чтение и отрывок и отправился на «этюд». Председатель приемной комиссии Рубен Николаевич Симонов достал из кармана портсигар, положил его на ближний ко мне край стола и сказал:
— Украдите!
Я улыбнулся. «Этюд» с портсигаром показался мне до чрезвычайности легким — он был целиком из моего жизненного опыта, из моего военного детства.
Я посмотрел в окно, которое находилось за спинами членов приемной комиссии. И что-то такое необычное «заинтересовало» меня за окном. Я пристально, прищурившись, вгляделся в это нечто, и удивление, изумление, нарастающий ужас отразились, наверное, в моем взоре. Я мгновенно побледнел и, может быть, даже покрылся смертельной испариной. Я увидел за окном пожар, наводнение, обвал, землетрясение, тайфун, извержение вулкана… Кровавый отблеск сползающей по склонам Везувия лавы пал мне на зрачки. Внутренне я пошатнулся и еле устоял на ногах. Члены приемной комиссии, обеспокоенные опасностью, возникшей у них за спиной, грозившей прервать экзамены, на секунду оглянулись на окно…
Когда они повернулись обратно, портсигара на столе, естественно, уже не было.
Сделалась пауза.
— Принят! — нарушил тишину бархатный голос Рубена Николаевича Симонова.
Он несколько мгновений с интересом разглядывал меня. Я вытряхнул из рукава пиджака портсигар и положил его на место.
— Специалист! — с уважением сказал председатель приемной комиссии.
Вечером того же дня, после того как я был зачислен в вахтанговское училище, я увидел во дворе нашего дома Леонида Евдокимовича Частухина. Он озабоченно шел куда-то в наглухо застегнутой шинели, туго перепоясанный портупеей, и на боку у него тяжелела кобура с пистолетом.
Форменная фуражка на голове была низко надвинута на глаза, сапоги ступали весомо и громко, длинные полы шинели романтично отлетали в стороны при каждом шаге. Во всей фигуре его ощущалась решительность, смелость, готовность к чему-то нелегкому и серьезному, грозная направленность на какое-то важное для многих людей событие. Он весь был законченным воплощением понятия «исполнение долга», олицетворением непреклонной гражданской совести, живым образом надежной защиты людей и закона от всех нарушений и посягательств, символом верности однажды данной присяги, клятвы, обету.
Я долго смотрел ему вслед. Мне почему-то вспомнился майор Белоконь, его похороны во время войны на Немецком кладбище, первые победные салюты в Москве и наша «потешная» Преображенско-Измайловская школа юных истребителей танков. И какой-то неприятный, тяжелый осадок лег на мое сердце, словно я изменил чему-то высокому и главному, будто я предал что-то единственно необходимое мне в жизни.
И мне вдруг бесконечно стыдно стало за свой сегодняшний успешный «этюд с портсигаром». Восхищенное слово, брошенное Рубеном Симоновым, — «специалист!» — обожгло мое сознание клеймом позора.
Читать дальше
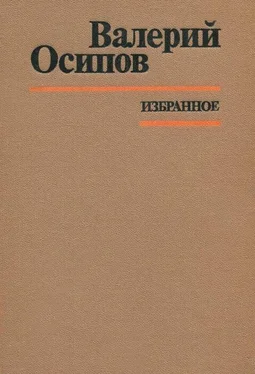
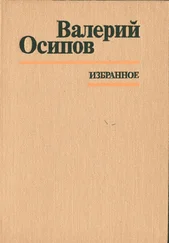
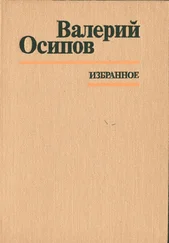
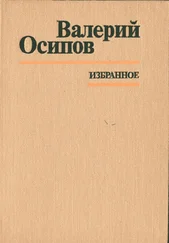
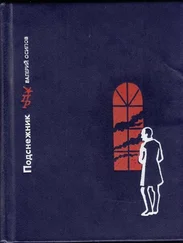
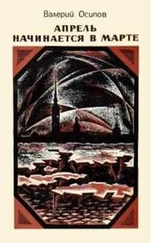
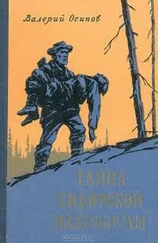


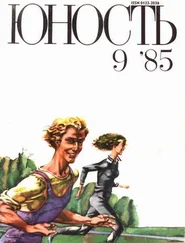
![Валерий Осипов - Солнце поднимается на востоке [Документальная повесть]](/books/404921/valerij-osipov-solnce-podnimaetsya-na-vostoke-doku-thumb.webp)

