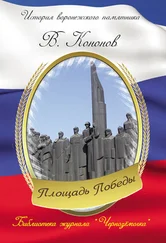Возможно даже, — кто знает, — их готовили и «отдавали» для целей гуманных: например, бездетным парам — будущим родителям — для усыновления или удочерения. Такие случаи были. И по рассказам автора Степаныч, в постоянном своём поиске истины, о них узнавал. А узнав и убедившись, что это именно так — старый, суровый человек долго ходил счастливым. О целях продажи остальных ариев… О них подумать страшно было… Слава Богу, в те годы о частной коммерческой трансплантационной деятельности ещё слыхом не слыхивали… А то этот коммерческий альянс между Гриней и Линой Соломоновной выглядел бы ещё более ужасным…
Автор оказался в группе прибалтов (арийцев — именно там и тогда впервые услышал он это слово и понял его смысл): мама–то его Стаси Фанни ван Менк, Додина Фанни Иосифовна, — в девичестве РедигерШиппер, дочь врача Иосифа Иоахима, — она финка. Чухонка (Чухна, Веся, Меря. По присловью: «Чудь начудила, Веся навесила, Меря намерила и получилась Русь». Россия). Вот ведь даже дядька его, — сам барон Карл Густав Маннергейм, финский швед или немец, — величал себя не иначе как чухной. Только чухной! Немало тем гордясь. (Видимо, это позволяло ему меж 1918 и 1944 годами, временами, прилюдно жестоко пороть за слепую холопскую наглость и безудержную имперскую спесь восточных своих «родственников»).
Как в Даниловке было с другими ариями и кто пользовал их, автор не знал. Его «вела» молодая, говорили — только со студенческой скамьи, докторша ли, фелшарка ли (По хевре — «Женька—Блямсс», настоящая, по мужу, фамилия Лясс). «Ходовые» сучки, — ублажающие детскими своими статями мужскую (и не мужскую тоже) «оршанскую» обслугу, — звали её «Гринкиной шмарой». Сам Гриня–родский, — на тоненьких кривых ножках под вислым брюхом, звероподобный «облезян» с носом–хоботом, — от огромных ушей до кончиков пальцев рук и ног заросший рыжей кудлатой шерстью, — по воспоминаниям воспитанников Даниловки, где ни заставал её — набрасывался медведем; загибал тотчас в три погибели через что попало; и тискал остервенело, трубно хрюкая и трагически постанывая; за что малолетки — «сучки» ненавидели её люто, «как соперницу». И ещё сильнее боялись: девиц она не терпела. Изощрённо истязала, ревнуя, видя, как он ведёт себя и с ними тоже… Хорошо хоть, что была «приходящей»… Девочки резали её. Кололи. Не раз мастырили ей «тёмную» — выдавили, было, глаза… Вскоре, по окончании известной «челюскинской страды» автора, она — по рассказам прибывавших из Даниловки в новый его Латышский Детдом — съехала из Москвы куда–то насовсем… С мужем? В Сибирь, что ли?…
Ещё приходила «учёная тётя Лина». Та самая профессорша Штерн.
Но эта — бугор! «Начальница!». Сам Гриняродский, — в глазах детей бывший главнее главного, — подносил и ставил ей стул — уважал.
Чего–то из–за растоптанного младенчества, конечно, автор не помнит – верно, вымыло из памяти. Но разве может он забыть, как перевезенный на Новобасманную, 19 «содержался» тайно (в изоляции от остальных) в «спец. помещениях». В первые годы — дома 16; позднее — дома 19. Запомнил, конечно, свои настоящие имя и фамилию. Хотя и милицейские опера(?) в Даниловке (возможно, не из Грининой банды?), под рефрен «тряпкой по морде» и угрозы страшным карцером запрещали называть собственное имя и отзываться на него; заставляли откликаться на чужое — «Виктор Белов».
Много позже узнал он от своего «Степаныча», что их, «ариев», в Латышском Детдоме как бы не было вовсе: — содержавшиеся в «спец помещениях», они «по самому Детдому не проходили». «Не состояли на учёте» на довольствии.
Не числились! Питание, бельё, остальное всё откуда–то привозили им отдельно, «спец. подводой» со «спец. возчиком» — было их таких немного.
Кем–то делалось всё, чтобы спрятанные всеми этими изощрёнными жульничествами дети никогда не нашлись. Ведь было точно известно, что «искать и найти их уже невозможно. Да и некому. С исчезнувшими родителями и отнятыми именами и фамилиями они окончательно потерялись в беспощадном хаосе жизни».
Когда кто–то из них исчезал однажды, остальные, — кто оставался, — старались удержать исчезнувших в своей памяти! «И, как я, — рассказывает автор, — поселяли их в себе. Так они и живут в нас по сей день. И, — пусть уже почти без надежды, — всё еще просят хоть в каком–то качестве оставить их на земле»…
* * *
Первая попытка издания романа–мартиролога на русском языке предпринята была в 1991 году в Японии лагерными (по ОЗЁРЛАГУ) друзьями автора, искавшими его сорок лет и, наконец, нашедшими. Делали они это рекламными, новостными и литературными полосами журналистов Tsutomu SAITO (Москва), Hiroshi IMAI (Бонн), эссе руководителя отдела внутренних новостей Yasuo NAITO и городских — Sachio INADA (все из Токийского официоза The SANKEI SHIMBUN), Keisuke MIZUMOTO повестями (Альманах «The SHUKAN BUNSHUN»), KANSAI TELECASTING TV фильмами (Групп KTV и KYODO NEWS SERVICE). В них телеведущие Keisuke MIZUMOTO и Hideo SASAHARA с 10.1991 по 11.1993 читали «Площадь РАЗГУЛЯЙ» и показывали иллюстрации к нему. Но интересанты из Телль—Авивского МИД, — перлюстрируя почту и слушая их переговоры с автором о судьбе рукописи, — «обеспокоились предстоявшим обнародованием» её! (Известна серия провокационных выходок посла в Токио Эшколя… Телефонные звонки японским друзьям автора ещё в апреле, после не прекращавшихся в Иерусалиме демонстративных фотографирований–преследований автора и его семьи. Что по законам Израиля строжайше запрешено!).
Читать дальше