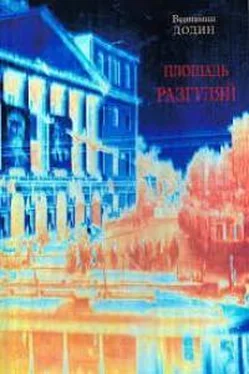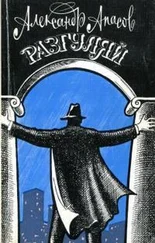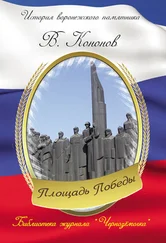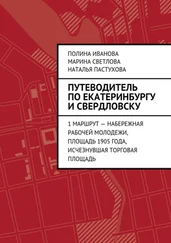Власти, открыв такую вот систему существования собственных граждан, великолепно осознавали крайнюю опасность концентрации огромной массы озлоблённых людей, содержавшихся в ужасающих условиях лагерей. Что масса эта может однажды перестать повиноваться и восстать - зашуметь (через 20 лет один такой «шумок» в Ухта—Печёрских лагерях – после бесчисленных «шумков» промежуточных — «утихомиривался» трёхмесячными жесточайшими «усилиями» всех родов войск трёх центральных военных округов под командой генерала тогда — будущего маршала – Г. К.Жукова!). Чтобы подобную опасноть устранить, в лагерях стала создаваться тайная «полиция противодействия». И параллельно, для слежки за ней и управления ею, активная вербовка в качестве агентов ОГПУ уголовных авторитетов из числа «уркаганов» — профессиональных уголовников. В том числе из самих «родских». Созданы и утверждены были специальные инструкции по оперативной работе с этой плохо управляемой публикой. В частности, рекомендовалось «сколачивать» контролируемые ОГПУ группировки — «Союзы» (Позднее, по типу их, «сколочены» были «творческие Союзы»: архитекторов, композиторов, художников в 1932 г. А в 1934 — писателей. И всех — во главе с талантливейшими и авторитетнейшими… секретными сотрудниками. С лёгкого слова основателя… в конце ХIХ века Московской сыскной полиции Эффенбаха именуемых сексотами). С тем, чтобы они с помощью «соратников» обеспечивали необходимую дисциплину среди, — на первых порах, — «троцкистов» (так во всех этих «творческих союзах» большого оцепления, а затем в тюрьмах и лагерях назывались и числились с 1926 и по 1954 год не только осуждённые по статье «58» тогдашнего УК РСФСР, но вообще все интеллигенты в ещё не заметённых «творческих организациях»). В лагерных зонах эти сексоты–авторитеты не работали на «общих». Свободно передвигались по «оцеплениям» (зонам) для оперативных встреч с нужными лицами и сбора информации. Администрация обязана была всячески поддерживать авторитет этих агентов (Как авторитет всех прочих «авторитетов» в прочих, не менее «творческих», Союзах «Большого оцепления»). После приказа 108/65 ОГПУ от 8.03.1931 г. к подобной «аристократии» привилась кличка «блатные», на жаргоне — «блатари», «люди» (одинаковые в Большом и малых оцеплениях). Затем она сама себя стала именовать, — иронически сперва, потом всерьёз, по «аналогии» с руководителями прочих Союзов, — «ворами в законе». (Кто у кого почётное звание это позаимствовал прежде, гадать не берёмся). Понимая, однако, что всем ясна незавидная их хотя бы в уголовной среде роль официальных стукачей–сексотов, как иным блатарям — в среде не уголовной… Авторы-«юмористы» одного популяризированного в 1994 году ГИХЛом (Издательством художественной литературы) Справочника КГБ(!) замечают: «спроси сегодня о значении этого выражения, — «Вор в законе», — у подобного деятеля, тем более, если он выходец из южных республик (тяготеющий к этому «высокому званию», как, впрочем, к другим званиям, бытуемым в Большом оцеплении) — последует гордый ответ, что «в законе», значит, авторитет признан по «закону»… Преступного мира, видимо?. Пусть так.
Но не следует забывать, — предупреждают авторы–весельчаки, — кто позволил этим «баронам» выделиться из остальной массы и с какой целью использовал их авторитет?… Как остальным баронам — из всех остальных Союзов…
* * *
Итак, «Даниловкой» под руководством Грини «Оршанского» – родского, — по свидетельству дворового «приятеля» автора, профессионала-майданника «Володьки—Железнодорожника», — правил воровское сообщество. Привлекаемые им врачи «со стороны», — на пол–дня в одно из воскресений, — комиссовали вновь прибывших детей. Разбивали их на понятные только им одним и самому Грине группы. Разгоняли их по разным камерам и корпусам. А откомиссованных: проверенных на отсутствие заболеваний («на вшивость») разбирали «по мастям» — по внешности и по национальностям. Арийцев(!) при этом прятали в спец. камеры, оснащённые койками и постельным бельём и даже подушками и новыми одеялками. И оставляли на дополнительный карантин (Отбракованную «учёной тётей Линой» их часть — «хазерай», по её выражению — угоняли обратно, в общие отделения). И уже без имён собственных и родительских фамилий, — под новыми именами и фамилиями, — отбирали и… продавали! Кому и зачем продавал «Гриня Оршанский» арийцев, — кроме «случаев» передачи их подручным некоей Лины Соломоновны Штерн, — и для воспитателя автора, «Степаныча», и тем более для него самого так и осталось тайной.
Читать дальше