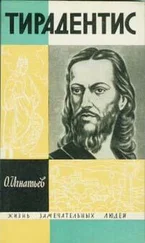— Я указал Левицкому, — начал было оправдываться Николай Николаевич, но Игнатьев не дал ему договорить. — Ваше высочество, смею спросить, благодаря кому мы взяли Ловчу?
— Благодаря князю Имеретинскому и, — главнокомандующий несколько замялся, — молодому Скобелеву.
— Так почему же Скобелев вновь не у дел? Из каких таких соображений?
— До дивизии он не дорос, ещё молод, а бригадные вакансии, увы, — великий князь развёл руками, — все давно заняты.
— Допустим, — согласился с ним Николай Павлович и высказал ещё один упрёк. — Князю Имеретинскому дали было 2-ю пехотную гвардейскую дивизию. Государь и Милютин поздравили его. Теперь дивизию дают Павлу Шувалову! Я очень рад за своего приятеля, но Имеретинский остался с носом. Это как, ваше высочество, нормально?
Великий князь смущённо кхекнул.
— Верно жалуется Горчаков, что Игнатьев перестал быть дипломатом, говорит со всеми грубо, как военный.
— Во-первых, не грубо, а прямо. Это большая разница. А во-вторых, я был и остаюсь военным, причисленным к российскому Генштабу, — с гордостью сказал Николай Павлович и стал настаивать на том, чтобы вопрос о назначении князя Имеретинского и молодого Скобелева был решён, и решён положительно.
— А почему ты так о них печёшься? — привычно перешёл на «ты» великий князь и тотчас услыхал ответ: — Я с ними удивительно схожусь.
— В чём именно?
— В плане ведения войны, — отозвался Игнатьев. — Во-первых, будучи в центре событий, я располагал всеми сведениями о ходе наших действий на различных участках фронта, а во-вторых, — добавил он с нажимом, — у меня было немало времени для наблюдений, раздумий и определённых выводов относительно ведения этой кампании.
— Ну, что ж, — с лёгкой обидой в голосе проговорил Николай Николаевич, — ты в самом деле перестал быть дипломатом.
«Дипломат я или нет, покажет время, — мысленно откликнулся Игнатьев, казня себя за раздражительность, а вот то, что вы, ваше высочество, решительны, но малосведущи в военном деле, это факт. Вторая Плевна это показала».
Главный штаб, который должен по идее быть своеобразной кузницей блистательных побед Дунайской армии, каким-то странным образом стал походить на цех по производству мыльных пузырей и утешительных реляций. А его канцелярия, и того хуже, приобрела черты сонного царства. По два-три часа уходило на поиски списка частей, стоявших биваком поблизости. Легче было сбегать в их штабы и получить необходимые бумаги.
Николай Павлович прилёг в своей палатке, смежил веки, в надежде немного вздремнуть, но где там! Шум во дворе стоял неописуемый: прислуга, кучера, болгарская семья под боком; дети плачут, боятся чужого народа, а в трёх саженях от палатки — пристанище фельдъегерей. Они спят вповалку под навесом. Болгары хозяйничают, прислуга бранится, конюхи и кучера о чём-то спорят. Все постоянно что-то выясняют.
— Ты мой фартук поясной не видел? Куды я его подевал?
— Где подевал, там и ищи.
— Вот козья морда! Знает, но не скажет.
А за сараем, у живой изгороди, окружающей двор, фыркают, ржут и справляют нужду кони — хозяйские, придворные, ямщицкие.
Картина!
Само селение полуразрушено, воды мало, и она гораздо хуже той, что была в Беле. Но воздух чище, здоровее.
Вечером, когда ударили зорю, Игнатьев вышел из палатки, чтобы перейти в сарай. Ночь была светлая, лунная. Вдруг на биваке гвардейского отряда, который охранял царя, полилась музыка Преображенского полка «Коль славен наш Господь в Сионе». Николай Павлович снял с головы фуражку, перекрестился и мысленно перенёсся на крыльцо круподерницкого дома во время тихого украинского вечера! Ему слышались родные голоса детей, пел Леонид и, как будто сам он подпевал ему. Увиделась жена, его ненаглядная Катя, с которой они жили душа в душу и которая ошеломляла его в письмах ласковыми тёплыми словами. «Дай-то Бог, чтоб это длилось вечно, и наш союз был неразрывен», — запрокинул он лицо к высоким звёздам. Сколько бы Игнатьев так стоял, трудно сказать, но кавалерийская труба, солдатское пение молитв и руготня ямщиков напомнила ему действительность, которая заявляла о себе там, где она была совсем некстати. Николай Павлович с досадою махнул рукой и, пригнувшись, вошёл в свой сарай — тёмный, плетнёвый закут, освещённый фонарным огарком.
На следующий день Игнатьев встретил главнокомандующего со всею его свитой. Болгарин Христо, сменивший красный казакин на фиолетовый кафтан с пришпиленным к нему Георгиевским крестом, соскочил на всём ходу с лошади и при всех поцеловал руку Николаю Павловичу. Пороховые крапинки давно и прочно въелись в кожу его смуглого лица.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу