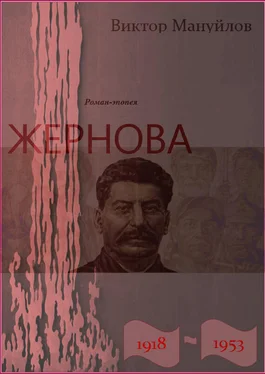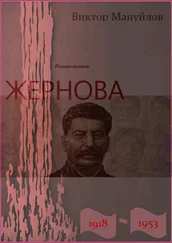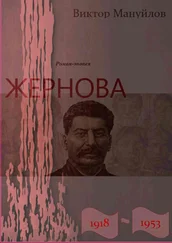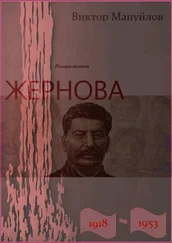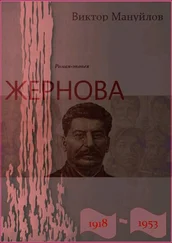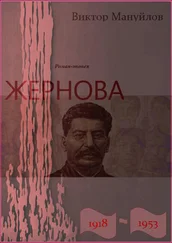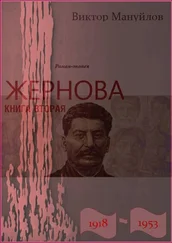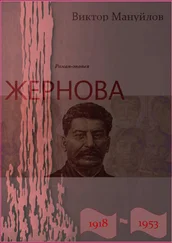И понял Гаврила, что если бы смирился он, не выказал перед хрипатым Касьяном своей гордыни, принял бы смиренно весть о его директорстве, жил бы себе и жил при мельнице – и это лучше, чем та доля, которая выпала ему и его семье. И все, что случилось потом: и побег, и смерти, и ненужные страдания – все это было платой за своеволие и гордыню, ибо творили зло и вызывали ответное зло в других, и зло разрасталось, как чума, и шло от одного к другому, от другого к третьему.
Похоронил Гаврила старца и подался на родную сторонку, чтобы простить врага своего и поклониться ему земно, чтобы умереть и предстать пред господом аки агнец, безгрешным и кротким. В пути ел Гаврила одни грибы, ягоды да орехи, отощал, напала на него какая-то хвороба, отняла силы. Но он все-таки дошел до родных мест. Вот и свершилось то, к чему он себя готовил последнее время, что завещал ему святой старец. Свершилось – и слава богу.
Гаврила таращил глаза, стараясь напоследок наглядеться на этот мир, в котором счастье пришло к нему только в конце пути.
Кто-то склонился над Гаврилой: женское лицо, знакомое, родное, придушенный вскрик… И долгий провал.
Очнулся Гаврила на лавке, в избе. Собственное тело казалось ему невесомым, воздушным. Оно словно парило и плавало над лавкой, поднимаясь время от времени к самому потолку, ища выхода, не находя его и снова опускаясь на лавку. А может, это и не тело его парило, а душа, чтобы через положенное время расстаться с земной юдолью и вместе с ангелами вознестись на небо…
Прасковья склонялась над Гаврилой и говорила какие-то слова… Полина, Машутка… кто-то еще. Но Гавриле казалось, что это лишь снится ему, грезится, поскольку тело еще не предано земле, не растворилось еще в матери-природе.
Глупые бабы… Зря они плачут… Не знают, что счастье как раз в том и состоит, чтобы в тихой печали пройти остаток своего пути…
Иногда он следил за ними глазами, ему хотелось сказать что-то, но язык не слушался Гаврилу, он был чужим.
Силы потихоньку оставляли его, жизнь истаивала в его высохшем теле.
Умер Гаврила средь бела дня. Глаза его оставались полуприкрытыми, на губах замерла слабая улыбка, костистое лицо с хищным носом смягчилось, обмытый и причесанный, белый как лунь, он походил на древнего старца, слишком зажившегося на белом свете.
В ту осень исполнилось Гавриле Мануйловичу сорок шесть лет. Всего-навсего.
Похоронили Гаврилу под старым дубом в ста саженях от мельницы, на взгорке. Дуб широко раскинул свои могучие ветви, отодвинув от себя на почтительное расстояние сосны и березы.
Со взгорка видна мельница, слышно, как хлюпает вода в колесе, как журчит мимо ручей, обегая гранитные валуны, принесенные сюда ледником.
Народу на похоронах было мало. Перед тем приезжал милиционер вместе с одноруким председателем сельсовета Митрофаном Вуловичем, составил протокол. Пришли братья и сестры Гаврилы, постаревшие отец с матерью, приехали с железки Алеха с Митрохой, а Петьке в армию и Ваське в Ленинград отписали, что так, мол, и так, но ждать не стали.
Ну, похоронили, справили тихие поминки и разъехались. Остались Прасковья с Полиной и Машуткой, но вскорости Полина действительно вышла замуж и забрала мать и сестру к себе, в Валуевичи, в дом мужа.
Покинула мельницу и жена Касьяна Довбни Меланья. Вместе со своими детьми вернулась она в дом к свекру: жить на отшибе, вдали от людей, ей, городской жительнице, было страшно. Да и ни к чему.
Пока Касьян лежал в больнице, залечивая свои раны, о нем дважды писала районная газета, однажды – областная. Писали о том, что большевик-ленинец-сталинец Касьян Изотович Довбня вступил в смертельную схватку с заклятым врагом советской власти и вышел из этой схватки победителем, хотя и получил множественные ранения. Касьяна сфотографировали на больничной койке, фото тоже пропечатали в газете. И сам Касьян поверил, что так оно и было: схватка и тому подобное. Были даже стихи, сочиненные Монькой Гольдманом, то есть Михаилом Золотинским:
Он вышел в бой с врагом жестоким,
В момент для жизни роковой,
В тот миг он не был одиноким:
За ним народ стоял стеной.
Как потерпевшего от руки врага советской власти Касьяна лечили в Смоленске, потом в санатории. Однако нога срослась как-то не так, как ей положено было срастись, то есть стала короче, и Касьян теперь шкандылял, опираясь о палку. Он стал достопримечательностью Валуевического района, его приглашали на всякие мероприятия по политической и общественной линии, сажали в президиум. Чаще всего Касьяну приходилось выступать перед учениками школ и училищ, в его присутствии принимали в пионеры и в комсомол, молодая смена клялась, что будет достойна его великого подвига.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу