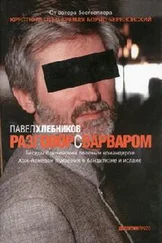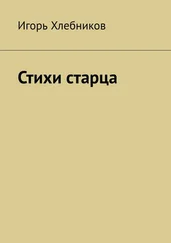Пересыпая черное зерно, Кушакова вспоминала:
— Я несколько раз ходила со старшей на разгрузку. Наломаешься за день, зато домой зерна принесешь. Мне Рыжкин мельницу сделал железную, намелю, лепешки пеку. А то просто кашу заварю. Многих на поселке это зерно сильно поддерживало, может, кого и от смерти спасло. Но вот это зерно, обгоревшее, вредное, по-моему, и керосином попахивает. Может, от него Еремкина и скончалась?..
В углу комнаты валялась кукла, сделанная из тряпок. На плоском лице улыбающийся рот, точки-глаза, палочка-нос, нарисованные чернильным карандашом. Кукла, как мне показалось, удивительно похожа на Еремкину. Эта трогательная самодельная игрушка напомнила мне о недавнем событии. В заводском клубе состоялся суд над Еремкиной. Ее лишили материнства за то, что она, по свидетельству соседей по бараку, плохо ухаживала за своей четырехлетней дочкой, часто съедала ее дневной паек — триста граммов хлеба. Еремкина к тому же таскала дочку по всяким организациям и учреждениям, выпрашивая какую-нибудь помощь. Это многих возмущало, и потому с удовлетворением было встречено решение суда забрать дочь у Еремкиной и передать в детский дом. А Еремкина рыдала, голосила, и никто тогда всерьез не воспринимал горе матери, глуповатой, испуганной жизнью женщины. А дочь свою это безобразное существо любила искренне. Она каждый день плакала под окнами детского дома, кричала: «Отдайте дочку мою, сволочи!». Она не понимала: зачем суд был, какие такие законы на свете, не понимала, зачем отобрали ребенка. Она не понимала, зачем она живет вообще на этой страшной земле, среди злых и непонятных людей. До войны она жила под опекой мужа, тихого и покладистого увальня, лучшего каталя на заводе. Жену и дочку, только родившуюся, любил. Но война отняла от Еремкиной мужа, дочку, отняла все. А вот сейчас отняла и жизнь. Размышления над горькой судьбой этой потерянной женщины угнетали меня. Хотелось поскорее покончить со всей этой печальной процедурой предания человека земле.
— Может, дочку взять на могилку? — тихо спросила Кушакова.
— А стоит расстраивать ребенка?
— Стоит, — твердо и строго сказала Кушакова. — Какая-никакая — мать!
Прибирая комнату, Кушакова нашла на подоконнике нераспечатанное письмо с фронта. Письмо свежее, Еремкина еще не успела узнать, что пишет муж. Она была неграмотной и обычно просила кого-нибудь почитать. Не успела… Я подержал в руках скромный треугольничек, свернутый из тетрадочного листка в клетку. Вопросительно взглянул на Кушакову.
— Прочитай, чего уж… — разрешила Кушакова.
Я развернул треугольничек. Крупными буквами, выведенными непривычными к карандашу пальцами, муж сообщал своей Настасье Макаровне (оказывается, была она Макаровна…), что война идет к концу, что ихняя часть уже в Германии, что «даем немцам прикурить». Пишет, чтобы дочь берегла «пуще глазу», что гостинцев он обоим привезет.
В столярке вкусно пахнет клеем, стружками, весело пылает огонь в большой плите. Старый столяр Рыжкин сколачивает гроб для Еремкиной и философствует:
— Все там будем… Вот внучка школьница надысь прочитала мне Пушкина стишки. Там такие строчки есть: «И чей-нибудь уж близок час…»
За годы войны Рыжкин изготовил многие десятки гробов и приобрел в этом печальном деле определенные навыки. Он и наставлял заказчиков как соблюсти похоронный обряд. Слушали его почтительно, ведь в те времена этот обряд считался вредным и ненужным предрассудком. Умер, зарыть его, а лучше сжечь, чтобы не допустить инфекции. А люди не хотели согласиться с кощунственной пословицей «Мертвым телом хоть забор подпирай».
Рыжкин предложил сделать для Еремкиной памятник-пирамидку. Кушакова настояла: пусть будет крест. Сколотил крест.
Хоронили на другой день. Опустили некрашеный гроб в мерзлую землю, зарыли. Весной земля осядет, поправлять могилу некому, крест сгниет и упадет, и сотрется всяческая память о бедной, никому не нужной Еремкиной. Двое колонистов, оправив холмик, закурили. Я написал химическим карандашом на кресте: «Н. Еремкина. 1920—1945 год».
Такими крестами, деревянными пирамидками со звездой и без, покрыта вся территория разросшегося за войну кладбища. В этом унылом и бедном прибежище мертвых кричаще нескромно выглядел высокий гранитный обелиск, мрамором выложенная могила, заваленная венками искусственных цветов. И еще стояли четыре кадки с замерзшими пальмами… Здесь была похоронена недавно скончавшаяся жена всесильного начальника Амурлага генерала Петренко.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу