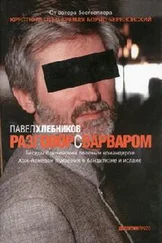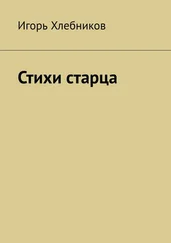Я и колонисты, закончив с могилой, направились было к повозке, где нас ожидал кучер Тимаев. Неожиданно послышалась грязная ругань. Я обернулся. У свежего холмика могилы Еремкиной корячился ражий мужик в полушубке, синих галифе, белых фетровых валенках в галошах. Он яростно раскачивал крест, пытаясь вытащить его. Это было до того дико и необъяснимо, что я подумал: «Пьяный? А может, рехнулся?». Я побежал к ражему мужику, крича:
— Остановись, что ты делаешь!
Пока я добежал до могилы, мужик уже вытащил крест и отбросил его далеко в сторону. Ражий круто, по-волчьи, повернулся ко мне и взглянул на меня белыми от злости глазами ката. Взгляд его я запомнил на всю жизнь. Взгляд ненависти, даже радостной какой-то ненависти, от которой слабли руки, немели ноги. Такие вот ражие молодцы рвали ноздри и выворачивали суставы в петровских пытошных. О том не раз читал я в исторических романах. Не знал я в ту пору, что и в сороковых годах, в советское время такие ражие продолжали зверствовать, только еще в больших масштабах…
— Ты закопал тут свое дерьмо! Вот заставлю руками выкопать, — заорал он, брызгая слюной. — Как врежу меж глаз, падла! — наступал он на меня.
И врезал бы. Но за спиной моей встали трое подоспевших мужчин. Ражий отступился, пересыпая речь свою матерщиной. Откуда-то появился заведующий кладбищем, щуплый человечек в ушанке. Он зачем-то снял ушанку, обнажил лысину и заискивающе проговорил:
— Что изволите гневаться?
— Бить тебя надо, гнида! — набросился на заведующего ражий. — Тебе товарищ Петренко что приказали, мозгляку?
— Чтоб на расстоянии тридцати метров от могилы его жены… — начал, заикаясь, заведующий.
— А тут сколько?
— Ну… почти… земля была талая… — оправдывался заведующий.
— Талая… Чтоб убрать могилу! Я проверю, — угрожающе предупредил ражий, уходя.
— Уберешь? — с возмущением спросил Тимаев.
— А что делать? — обреченно ответил заведующий, не надевая шапки. — Петренко — сила! Мигнет — и нет меня. И в лагерь закатает. Его и в горкоме боятся.
— Аллаха надо бояться, — заметил Тимаев.
— Аллах далеко, а Петренко — вон он, — указал заведующий на монумент в окружении мороженых пальм.
По пути домой мы с Тимаевым отпустили колонистов с повозкой, а сами завернули на базар, что разбросал свои убогие ларьки, магазинчики, шаткие столы-прилавки на берегу Амура. Место это до войны служило жителям молодого города для проведения торжеств, митингов и шествий. Когда-то и я вышагивал в колонне босоногих физкультурников и кричал «ура!» в ответ на приветствия с трибуны.
С наступлением войны праздники не проводились. Здесь, на этой площади, только торговали. Я всегда удивлялся неистощимой фантазии и изобретательности людей, находивших предметы, имеющие хоть какую-нибудь потребительскую ценность. Предлагали настойчиво и крикливо старое платье, поношенную обувь; целый угол базара занят всякой мебелью, рисованными на клеенке коврами с непременными лебедями, русалками, башнями. Продавали махорку спичечными коробками, по пятнадцать рублей за коробок, рулончики газетной бумаги для «козьих ножек». Но, конечно же, основным товаром считалось любое съестное. Продавали хлеб, рыбу, картошку, молоко, черемшу, кедровые орехи, котлеты из сои и картофеля. Все стоило баснословно дорого. Люди привыкли к астрономическим цифрам и не удивлялись, если за кетину брали триста рублей.
Мне нужен был хлеб. Вчера я обнаружил в летней спецовке четыреста рублей. Как я забыл про них осенью, получив зарплату, не мог припомнить, на что их отложил. Деньги были не особенно в ходу. Теперь я мог их истратить. С утра страшно хочется есть, а хлеб по карточкам я забрал вперед. На обед я опаздывал, хороня Еремкину. Да и ужин условен: тарелка супа. Я высмотрел в руках красномордого парня в солдатском бушлате буханку белого, так называемого амурлаговского хлеба. Белый хлеб и булки городские пекарни перестали выпекать еще за два года до войны. В Амурлаге пекли для «элиты». Я остановил красномордого.
— Пол косой, — буркнул парень, не выпуская изо рта папироски.
— Милый, дорогой, а дешевле? — с упреком сказал Тимаев.
— Ищи дешевле, — посоветовал парень, хотел идти дальше, но вдруг, решив что-то в уме, спросил:
— Твоя цена?
— У меня четыреста, — сказал я.
— Твоя, — сунул мне буханку парень, небрежно взяв из моих рук деньги и, не считая, сунул в карман.
— Этот из Амурлага, я его часто на базаре вижу, — говорит Тимаев. — Он этих буханок много продает. Пайки у амурлаговской службы большие, да и карабчат мало-мало. Живут люди! — с искренней завистью заключил Тимаев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу