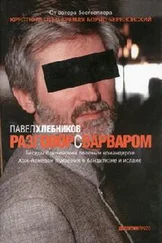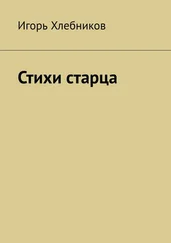Мимо будки проходила с бидончиком курьерша Мотя, с любопытством посматривая на очередь.
— Эй, Мотя! — крикнула Кушакова. — Тащи сюда молоко!
Мотя в нерешительности остановилась.
— Ну что стоишь, иди сюда. Вон у Вергазовой младшенький заболел, молочка бы. А Мотя к управляющему трестом несет молоко, — обратилась ко мне Кушакова. — А у него и так брюхо толстое.
— Не могу! — замотала головой Мотя и двинулась дальше. Приостановилась: — Не могу, — повторяла, испуганно оглядываясь, — начальство.
— Откуда у нее молоко? При чем тут управляющий? — озадаченно спросил я Кушакову. Ответил Степан Кузьмич:
— Ты разве не знаешь? Еще два месяца назад на завод корову привели из подсобного хозяйства. А Мотю приставили ухаживать и доить, молоко в город на квартиру управляющего носить.
Я представил себе дородную фигуру раздобревшего управляющего Барского, такую же дородную и капризную жену его, сопоставил их с вот этими истощенными бабами, измотанными непосильным мужицким трудом, и мне стало нехорошо, будто я пью это молоко, отнимаю от детей. Ну к чему Барскому это молоко? Умрет он что-ли? Ему «положено…» — часто говорят в подобных случаях, а детям разве не положено! Им-то положено в первую очередь.
Наконец очередь растаяла, женщины разошлись, таща мешки. Капуста еще оставалась, оставались и люди, нуждающиеся в ней. Кузьмич, готовясь закрыть будку, кивнул в сторону кучи капусты, сказал:
— Не возьмешь капустки?
— Ты что, Кузьмич!
— А что? Есть-то всем надо… Оно, конечно, капусту тебе не приготовить, холостому-то, — он понизил голос: — А может, рыбки? Есть на складе. Ты ведь ни разу не пользовался. Другие-то брали.
Я решительно отказался от рыбки. Но при этом, признаюсь, мне пришлось подавить подленькую мыслишку насытиться. И никто не узнает… Ах, это — никто не узнает! Оно лежит в основе каждого преступления. Никто? А ты сам? Неправедная пища будет потом жечь мои внутренности и душу мою. Измена себе не забывается никогда, она навсегда остается с тобой и тобою же прощается, если, конечно, признается за измену.
На завод приехал Мирон Вербенко. Ему как и мне тридцать, но выглядит он куда солиднее меня. Он ухожен, одет в модную в те времена для должностных лиц кожаную куртку. Мирон до войны, после окончания института, начинал работать на нашем заводе, дослужился до поста директора. Во время войны взят на повышение в трест. Сейчас — парторг ЦК в нашем стройтресте. Мне нравился этот человек, мой сверстник, нравился за прямоту и честность. Может быть портила его последнее время замечаемая мною служебная право-
верность, непременная спутница равнодушия к конкретному человеку, к его боли.
— У меня письма есть, — говорил Мирон, — из горкома переслали… Проверить надо. Солдаток касается. Пойдем-ка со мною, походим по баракам.
Бараки, бараки… За четыре года войны обветшали они, обшарпались, покосились крылечки, прохудились крыши, в дождь в любой комнате ведра и тазы расставлены для улова воды. Поосели опилки в засыпных барачных стенах, и зимой в комнатах замерзает вода, а малые ребятишки не слезают с кроватей, закутанные в тряпье. В редкой комнате чисто вымытые полы, а чаще запущенные, черные от грязи, с прогнившими половицами-клавишами, прогибающимися под ногами. Голод, нищета, отчаяние всегда сопровождается равнодушием к быту: «Пропадай оно все пропадом!». Не замечаются грязь, разбитые стекла в окнах, обвалившаяся штукатурка, разваливающаяся печь, паутина по углам, скопище клопов, набрасывающихся на человека с наступлением темноты. Клопов так много, что борьба с ними мало результативна. Летом все население бараков в теплые дни спит на улице, устраиваясь на деревянных тротуарчиках. Тогда клопы ринулись сюда, обосновавшись в щелях тротуаров и продолжая терзать население поселка.
Одно из писем касалось солдатки, матери четверых детей Вергазовой. Мы нашли ее в самом ветхом бараке, попасть на житье в который все боялись. Сооруженный из самана в первый год строительства города, он покосился, угрожающе провисли потолки, еле держащиеся на прогнивших балках. Темный коридор, кислый удушливый запах. Я заметил, как Мирон поежился, входя в это зачумленное помещение, мало похожее на человеческое жилище. В просторной комнате обитала Вергазова с ребятишками и престарелой матерью. Комната казалась просторной из-за пустоты. Мебели: две кровати, стол, несколько табуретов. На черной от сажи плите — убогая утварь. Мать Вергазовой лежала на кровати и тихо стонала, сама хозяйка сидела посередине комнаты на табурете, окруженная детьми. Самый маленький непрерывно ныл, всхлипывая:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу