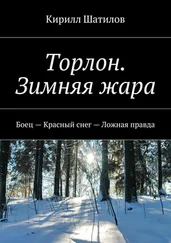— Видал вот кабатчика? — продолжал Попов. — Совсем не нужный человек. Казак ему последнее несет в кабак, а он, вша тифозная, и не подумает, что казак от хранцуза или всякого иного австрийца его защищает и поить его нужно бесплатно. Вот в чем штука! Я тебе скажу, есаул его обязательно шлепнет.
— Голова у тебя, пан старшина!
— Чего ты опять старшиной?
— Не могу иначе!
— Ну, валяй! Если б у меня нога не калечная, я б и до пана полковника дослужился. Отчаянный, страсть!
— Все это видят!
— А как же ж! Почитай, никто в нашей части не взял бы энту дьявольскую бабу. А я взял! Крестным знамением, туды ее мать, и пошла как миленькая!
— А ведь на допрос ее пора, пан старшина! — будто случайно напомнил Косицкий.
— Эт верно, что пора, — вздохнул Попов, не желая прекращать хорошо завязавшейся беседы. — Попадется такая сука — и води ее! Нога расходилась, как на оттепель… Ты чего ж, тут останешься или пойдешь допивать с есаулом?
— Сам не знаю, пан старшина. Тебя могу подвезти, если там ждут.
— Да кто там ждет! Насмалился он с тобой — до утра проспит. Гляди, к его бабе не подступай! Ревнив, гад, как я! Недавно вестового застрелил за то, что тот у нее обедал… Ежли что, — сказал он, тяжело поднимаясь, — дело молодое… тайком помани! Я смолчу. Могила!.. Так подвезешь? — скривился он от боли.
— Иначе быть не может, пан старшина!
— Чудные вы, хохлы! — помотал тяжелой головой Попов. — Будто и спокойно с вами, а все ж не наши люди… — Он пошел к двери, хромая и горбясь. — Наши по этой причине бьют ваших на вывозе. Вывоз знаешь? На мельнице или на ярмонке… А ежли пожелаешь, — повернулся он, подмаргивая, — можно и ту, что в сарае. Она теперь посмирнела — дьявольскую силу подломали на допросах… Только в другом изъян: на перине не повернется, как надо. — Он хрипло и дурно засмеялся.
— Довезу, пан старшина, а там видно будет, — мрачно опустил брови Косицкий.
— Хитер ты, видать!
— Чего это — хитер?
— Ни от чего не отказываешься!
Он пошел вперед, лихо толкнул дверь.
Сомов успел шепнуть петлюровцу:
— Меня не вмешивай, мне тут жить… Я передам известие, что сделано по уговору…
Косицкий сунул ему из-за спины красненькую.
— Живи, как жил!..
Дрожа от страха, Сомов выглядывал из двери, ожидая, как все устроится. Казак долго возился с запором. Потом чиркал спичкой, выводя арестованную. Косицкий поддержал ее, когда она споткнулась и чуть было не упала. Издали, в синем ночном тумане, они походили на людей, вернувшихся из гостей. Звезды россыпью держались над ними. Так и казалось, что усатый казак с пьяной удали заорет песню. И ничего далее не будет.
Когда они вышли за ворота и повернули к саням, Сомов перекрестился, почему-то ожидая, что именно теперь произойдет главное. Петлюровец дал всем усесться, затем оглянулся на пустую улицу. Казачий постой был далеко, в другом конце поселка. Никому не охота выходить среди ночи на мороз. Тогда петлюровец, как будто стараясь перейти па другую сторону саней, шагнул назад и ударил ручкой нагана казака по голове. Быстро вскочил в сани, схватил вожжи. Сани дернулись в одну сторону, а он завалился в другую, потом поднялся и ударил коней вожжами.
Сомов решил подождать рассвет, чтоб потом донести — ворота в сарае открыты, арестантки нет и казака усатого нет, с хохлом, видать, укатили.
Сыпался снег, припорашивая плечи и спины красногвардейцев и очереди-«хвосты» у хлебных магазинов. В «хвостах» неподвижно стояли женщины, старики и дети. Лица старые, глаза скорбные, спокойно глядящие на то, как идут по улице красногвардейцы, дробно стуча каблуками и разрывая тишину маршевой песней:
Смело мы в бой пойдем…
Но стенах домов — лозунги, плакаты, изображающие толстопузых буржуев и запачканных в крови генералов. Рядом с этими иногда попадались и другие: «Україна — українцям!», «Що цар Петро, що руські окупанти — одна партія», «Більшовики шукають класову зненавість, а наші люди люблять один одного!»
Ах, эта любовь! На Холодной горе петлюровцы зарубили рабочего. На черном рынке спекулянты, не спрашивая, кто ты, хохол или кацап, драли три шкуры за муку и сало. Какие-то бандиты бросали камни по очередям «хвостам», не приглядываясь, кто в них стоит, «свои» или «оккупанты». А «оккупанты» растапливали на улицах солдатские кухни и раздавали кашу голодным детям.
Неделя прошла, как Вишняков с Фатехом жили в Харькове и удивленно приглядывались к жизни большого города. Она им казалась шумной, суматошной, но не безликой. Город был рабочим и красногвардейским — шинели, бушлаты, промасленные пиджаки.
Читать дальше