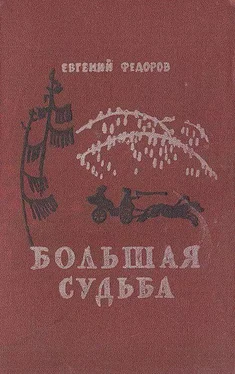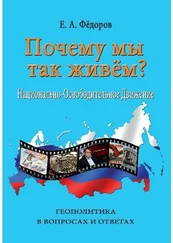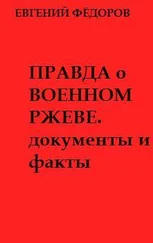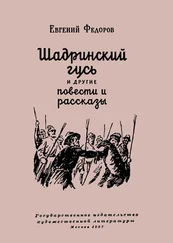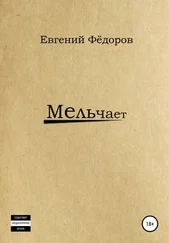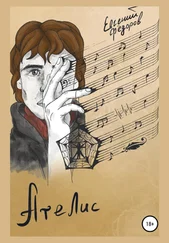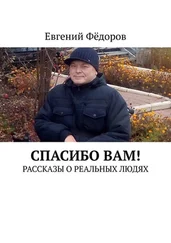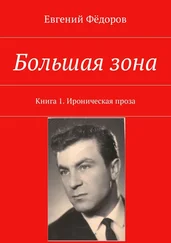Неожиданно на полигон прибыл царь; милостиво подозвав к себе приехавшего инженера, он спросил:
— Уверен ли ты, что твоя пушка выдержит?
— Вполне, ваше величество!
Александр II пристально посмотрел на Обухова:
— А чем ты это докажешь?
— Если позволите, я сяду на пушку верхом и пусть стреляют!
Царь снисходительно улыбнулся.
— Пожалуйста, не вздумай этого делать!
Он взмахнул белоснежным платочком, и испытания начались…
Результаты испытаний превзошли все ожидания.
Из первой стальной пушки выстрелили четыре тысячи раз, и ни одной царапины не появилось у нее в стволе. Тут уж и министр не утерпел, поздравил Павла Матвеевича.
— Видишь, сударь, отлил-таки получше Круппа! — похвалил он инженера и доложил об успехе царю.
Александр II пожаловал Обухову десять тысяч рублей и приказал построить в Златоусте пушечный завод.
КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ЧЕРНОВА
Надвигалась угроза войны с Турцией, и для русской армии требовалось хорошее артиллерийское оснащение. Одна Златоустовская пушечная фабрика не могла обеспечить потребность армии в пушках. Кроме того, перевозка орудий из горного городка гужом представляла большие трудности. Поэтому русское правительство решило организовать еще два орудийных завода — в Перми и Петербурге. Только что налаженное производство пушек в Златоусте решили постепенно прекратить. Павел Матвеевич Обухов в 1863 году был переведен в Петербург для строительства нового орудийного завода, который решили возвести неподалеку от столицы на берегу Невы в селе Александровском. Обухова назначили директором нового завода. Завод в селе Александровском стал известен в народе под именем Обуховского. Казалось, всё имелось на заводе для изготовления лучших пушек: превосходное оборудование, директор — талантливый ученый-металлург, опытные рабочие. Однако здесь Павла Матвеевича стали преследовать жестокие неудачи. Одни пушки, отлитые Обуховым, выдерживали по тысяче, а иногда и больше выстрелов, другие же, сделанные из такой же стали, неожиданно разрывались, нередко причиняя увечья артиллеристам. Дело дошло до того, что даже из испытанных пушек на Охтенском морском полигоне пробные выстрелы производили гальваническим способом — без орудийной прислуги.
«В чем же дело?» — обеспокоенно думал Павел Матвеевич.
В бессонные ночи тревожили подозрения: приходил на память ресторатор Лербье и подозрительный юркий Розенберг. Кто знает, может быть на заводе тайно орудуют шпионы? Усилили охрану завода, тщательно проверили химический состав стали. Но пушки нет, нет да и разрывались без всякой видимой причины. По Петербургу поползли слухи о необходимости прекратить производство пушек в России и передать все заказы иностранным заводам. В правительственных кругах явно не доверяли Обухову, а кое-кто открыто злорадствовал. Однажды в министерстве Павел Матвеевич оказался свидетелем неприятного разговора. Какой-то обрюзглый чиновник, собрав вокруг себя группу слушателей, с жаром разглагольствовал:
— Господа, я всегда говорил, что в России не могут отливать стальные пушки. Англичане и немцы — вот это другое дело. Пока не поздно, нужно закрыть завод, от которого только одни неприятности.
У Обухова болезненно сжалось сердце.
«Надо уйти от этой грязи! Никто не хочет помочь, и это на руку иностранцам», — с тоской думал он.
Он зашел в ресторан и сел за столик. Пил рюмку за рюмкой и не хмелел. В голову лезли горькие мысли.
«Несомненно, здесь действуют неизвестные законы литья!» — рассуждал он о металле, и снова перед его глазами прошел весь процесс изготовления стали.
И вдруг он вспомнил об одном молодом ученом-металлурге Дмитрии Константиновиче Чернове, о котором так много говорили знакомые инженеры.
«Надо глубже изучить технологию стали. Этот молодой человек обладает знаниями, большой любовью к делу и, самое главное, даром наблюдательности. Только он поможет мне разгадать секрет моих неудач». Обухов повеселел. На другой же день он был в Технологическом институте, где работал Чернов.
Павел Матвеевич сделал правильный выбор: Дмитрий Константинович оказался образованным, знающим человеком, умевшим добросовестно и упорно работать, и очень понравился Обухову. Девятнадцати лет Чернов окончил Петербургский Технологический институт и остался в нем преподавателем математики. Одновременно слушал лекции Остроградского и Чебышева на физико-математическом факультете Петербургского университета. Еще в студенческие годы Чернов внимательно изучил статьи Аносова, опубликованные в «Горном журнале», и особенно работу Павла Петровича «О булатах». В ней было много интересного, неожиданного, нового. В то же время он чувствовал, что за тайной булата кроется много других тайн в строении металла, которые еще до конца не изучены.
Читать дальше