— Папа, а когда мы с тобой пойдем на лыжах?
— Как только снег плотнее ляжет.
— И мама с нами?
— Непременно.
— А если у нее опять будет воскресник?
— Ну, не на каждой же неделе.
— А ты не уедешь в командировку? Не уезжай.
Не уезжать — значит принять предложение Чеканюка.
— Не уедешь, папа? А? Не уедешь?
Терновой так и не ответил, только на миг ласково прижал к себе головку в смешной шапочке, которую связала Аня. Когда только успела? Принялась было и мужу свитер вязать, да так и оставила на полпути. После того разговора на кухне. В котором никто из них не был виноват.
А виноват был все тот же Чеканюк. Установлено точно. И — после всего! — идти к нему в замы?!
— Ты мне не ответил, папа, — не успокаивался Виталик. — Ты не уедешь? Ты ведь не хочешь уезжать от нас? Скажи!
Вон как вопрос повернут! Новый ракурс. Или — рецидив чего-то старого, давнего, Терновому толком неведомого?
— Никуда я от вас не уеду, сынок. С чего ты взял? Ну, а если в командировку, ненадолго…
— Я не хочу! Ни насколько! Я хочу всегда быть с тобой!
— Мне тоже хочется всегда быть с тобой. И с мамой. Но ведь на работе не всегда делаешь только то, что хочется.
И не скажешь малышу, что больше всего хотелось бы сейчас вообще уйти с этой работы. Хоть на вольные хлеба. «Бросить бревно», как говорил толстяк Пичугин. А между прочим, вполне реально сейчас — перейти в журнал, куда как раз недавно приглашали. Членом редколлегии, возглавить отдел публицистики. Оно и спокойнее (относительно, конечно), и пресловутый рост, опять же. А главное, подальше от источника всех тех сплетен, которые и рад бы забыть, да не забываются… И — поменьше поездок, которые с годами даются все труднее. Заикнулся было главному — тот и слышать не пожелал. Тогда (нашла коса на камень!) написал заявление, но Главный отказался завизировать: пускай райком решает, вы ведь, Виктор Максимович, еще и секретарь нашего партбюро, помимо всего прочего, а лично я категорически против вашего ухода из газеты.
В райкоме же сказали: «Опять заявление?! Что ж, по закону вы вправе уйти, у нас кадры не закрепощаются. Но кроме прав, вы знаете, есть и обязанности, а у членов партии — тем более».
И вопрос остался открытым.
Как же быть? Сидеть меж двух стульев — негоже. Меж двух стульев надо стоять. Но — на чем стоять, вот вопрос…
Солнце пригрело, снежок под ногами перестал скрипеть, начал подтаивать. Мимо провели миниатюрного пуделя — будто из черного каракуля, а быстрые мохнатые лапки — как на колесиках. Игрушка! Песик, натягивая поводок, с любопытством обнюхал Тернового и Виталика. Убедившись, что оба — люди хорошие, послушно последовал за своим хозяином.
— Папа, давай заведем себе такого?
— А гулять с ним по утрам кто будет?
— Я. Буду, вот увидишь! Еще до школы.
— И в школу не опоздаешь? Или с собой на урок приведешь?
Виталик задребезжал было козленком, но тут же призадумался и не вполне уверенно повторил:
— Я буду гулять с ним. И научу ранец носить.
— Пойдем-ка домой, сынок. Мама уже, наверное, пришла и ждет нас.
— Ну, пойдем, — милостиво согласился Виталик и тут же спохватился: — А собачку?
— Подумать надо.
О многом надо было подумать, не только о собачке.
Они вышли из парка, пересекли дорогу и направились в сторону видневшейся отсюда колокольни — к дому. Где ждала их Аня. Он решил посоветоваться с ней, сегодня же. Но перед тем надо было и самому принять какое-то принципиальное решение. Ну, хотя бы проект решения. Вот что предстояло нынче Виктору Максимовичу Терновому.
БРОНЗОВКА
(Сочинение Аркадия Котикова, чудом пробившееся на газетную полосу)
Родилась она от Сплава и Меди. Я назвал ее Бронзовкой.
Она бежала веселой рысью. Но оставалась слева на шкафу, как раз над лежбищем увесистых словарей. Она вся была золотисто-бурой масти, подобно своим братьям и сестрам, водруженным над трибунами ипподрома и на цоколях памятников. В комнате, которую она заняла, неподвижно висел табачный туман, но ее хвост и грива вздымались, будто на резвом степном ветру. Она изогнула сильную, но податливую шею и, кокетливо отвернув интеллигентную морду, нацелила в потолок чуткие уши. Она бежала непринужденно и неутомимо. И все время была видна на том же привычном месте — на книжном шкафу.
А я, не находя себе места, шагал и шагал, то туда, то сюда, вдоль теряющих темно-рыжие клочья краски досок пола. Длинные, прямые и узкие, как беговые дорожки, доски тяжело прогибались подо мной, хотя вес у меня жокейский — меньше шестидесяти. И стекла сотрясаемого моей ходьбой шкафа часто и звонко стучали. Причем трудно было определить, стучат ли это сами стекла или стучат копыта Бронзовки.
Читать дальше
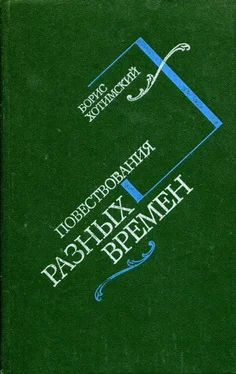



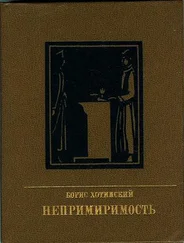


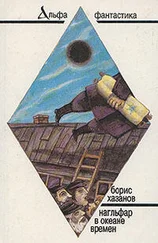
![Борис Хотимский - Поляне [Роман-легенда]](/books/388254/boris-hotimskij-polyane-roman-legenda-thumb.webp)



