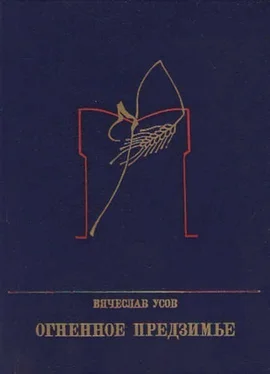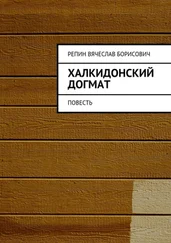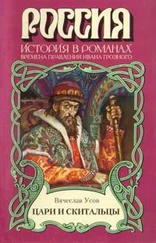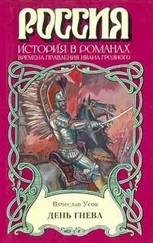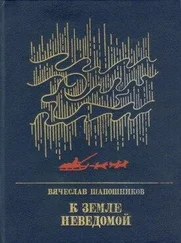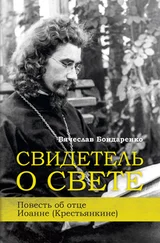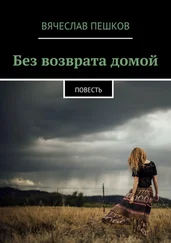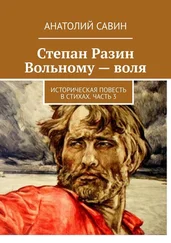Рассказывали, что во время приступа на стену забрался один монах, явившийся в Симбирск чуть ли не с Белого озера, от Никона. Его никто не называл по имени. Он заколол двоих детей боярских, но был изранен и сброшен в ров. Однако выбрался. Обмазался мельханом на конопляном масле с целебной травкой, выломал из садовой ограды посох и ушел неведомо куда. А к атаману попрощаться не зашел.
Есть на реке Карле татарская деревня Крысадаки. Первого октября оттуда прибежали дозорные и доложили Разину, что в Крысадаки вступил Барятинский со свежим войском. Степан Тимофеевич не засуетился, а подумал вдруг о постороннем: в поморских деревнях с приходом кораблей появляется множество крыс, они прогрызают стены амбаров и пожирают семена. Что означало слово «Крысадаки» по-татарски, он не знал. А только показалось, что по-русски в названии деревни сокрыт значительный и мрачный смысл.
Октябрьский вечер был холоден и ясен. Степан Тимофеевич, выстуживая душу, долго стоял на крыльце своей избы. Впервые он почувствовал, что в деле его наметился гибельный перелом. С жестокой откровенностью военачальника он вычислил, что войско его вряд ли потянет против полков Барятинского. Но он не испытал упадка сил — живое сердце вопреки расчету гнало по жилам кровь-надежду.
— Что жа, — сказал он есаулам. — Мы его били и вновь побьем.
Есаулы и сторожа вникали в суховатый голос атамана, улавливая в нем привычную уверенность.
Пробуждаясь, князь Юрий Никитич расслаблял пальцы, сжимавшие во сне карающую саблю. Он и наяву думал о ней как о карающей, утяжеленной на конце стальным наростом елмани, отчего она падала на воровскую шею без лишнего усилия руки. В мирные ночи сны Юрия Никитича бывали далеки от повседневности, причудливы и сказочны; сны военные насыщались злобой дня.
Усиленный пехотой полк Барятинского шел к Симбирску. Возмущение, переходившее уже в какую-то невоенную, гадливую ненависть к ярыжной голи и мужикам, объединяло дворян и воеводу. Их путь лежал через деревни и городки, в коих восставшие обосновались как в отвоеванной стране. Ненависть к мужикам обызвестковывала сердца, они теряли способность к теплому биению, отзвуку на чужую беду и боль, помня только свою беду.
Возбуждая и натравливая друг друга, люди Барятинского готовили себя к последней схватке с Разиным.
Алатырский помещик Семен Силыч Степанов своими горестями не делился даже с князем-воеводой, хотя и был к нему ближе многих. Алатырь был сожжен, поместья вокруг него разорены. Успели его домашние уехать из деревни, чтобы сгинуть в Алатыре, или ворье настигло их на месте, никто не знал.
Полк шел не по короткой дороге от Казани через Тетюши — недоброй памяти селение, куда Барятинский, спасая, отвел своих рейтар; шли по проселочным дорогам, пересекая речки бродами, сильно уклоняясь к западу от Свияги. В самом начале марша, возле сельца Куланги встретили три тысячи татар и черемисов под командой казаков. Были у них и конные, и пешие, но изготовиться для правильного боя они не сумели, передовой отряд сбил их и расклинил. Черемисы разбежались по реденьким лесам, татары понадеялись на уносчивых коней. Шестьдесят семь человек были схвачены и казнены — порублены, повешены. Тогда впервые отлегло от сердца у Семена Силыча. «Это вам за моих задаток», — шептал он, наблюдая, как у виселиц работают холопы.
Среди захваченных оказался человек, чье присутствие в воровском войске особенно взбесило князя Барятинского. Ефрем Провоторхов был из немногих московских стрельцов, бежавших к казакам из своего полка. Юрий Никитич, жестоко допросив его, так и не понял, зачем он изменил: у него был дом в Стрелецкой слободе, торговое место и жалованье. Ефрем одно сказал: «Наши московские еще не раскачались, еще надеются без крови своего добиться». Барятинский велел его «расчетвертовать и на колье рассажать».
Стрельцы в полку Барятинского были повязаны домами, семьями, хозяйством в Казани и Москве. Солдаты же по подневольной жизни и муштре должны были сочувствовать бунтовщикам… Но тут — особая статья.
Новый солдатский строй, как многие изобретения Запада, был принят воеводами в урезанном и жестоком виде. Устав был разработан в армии принца Оранского, боровшейся за свободу Нидерландов. Теперь он использовался для удушения свободы. Еще Иван Грозный сообразил, что можно безнаказанно давить живую мысль народа, а потребные для казны и войны «художества» покупать у немцев.
Читать дальше