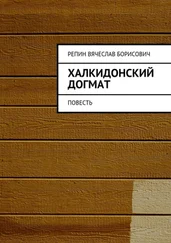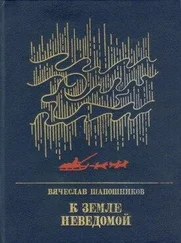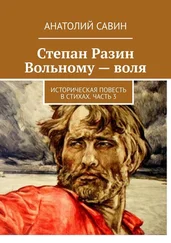Он не был уверен, что убедил Максима окончательно, и сказал так:
— Когда победим, разве одних страдальцев твоих соберем в круг? Нет, Максим, перед кругом, яко перед богом, все равны.
Харитонов слушал их без любопытства: простые, и грубые военные заботы занимали его куда больше. Он и перевел на них разговор:
— Ты, батько, велишь крестьян с конями к тебе в Синбирск посылать. А много ли надо?
— Сколько сможешь. Лошади наши пали по дороге, сам ведаешь. И ты не забывай, Максим!
— А коли нас прижмут, кто выручит? — не успокаивался Харитонов.
— Так вы не оставляйте меня без вестей. Синбирск возьму, глядишь, и вам пошлю подмогу… Письма, письма шлите мне, атаманы-молодцы! Иначе растеряемся, нас врозь побьют… Дьячки грамотные есть у вас, нехай трудятся. Да и прелестные письма наши пусть переписывают, сколь надобно.
К этому времени в таборе Разина уже трудилось до десятка писцов, составлявших прелестные письма-призывы на русском и татарском языках, действительно обращенные и «ко всей черни», и к посадским отдельных городов, и к детям боярским, и к татарским мурзам, которых Разину хотелось перетянуть к себе. Хотя он понимал, что выглядит в глазах дворян злодеем, покусившимся на самые основы их благополучия.
— Ну, с богом, — оборвал он напутственные речи. — Всего наперед не угадаешь. А скучно станет мне без вас, други. С кем меды пить?
За шуткой он скрывал душевную тяжесть, предчувствуя, что посылает он их на гибель. Даже когда отправлял на Дон брата Фрола, не было ему так скучно, тускло, как при расставании с Максимом,
Не потому ли, что, сколько бы Разин ни толковал о едином круге черных, трудовых людей, крестьянская обида оставалась горше всех и придавала высший смысл его делу.
Посад Симбирска был занят, но на горе Венец, где крутые улочки упирались в запретный для строительства пустырь, твердо стоял четвероугольный кремль. В нем, словно чья-то смерть в яйце из сказки, засел воевода Милославский. Пока он там, Симбирск не наш.
Между Окой и средним течением Волги лежит земля, кормившая Россию. От Арзамаса к Саранску почвы становились чернее и жирнее, а урожаи возрастали от жалких сам-два до сам-сём. Именно эти земли пошли в раздачу служилым людям после Смуты. Деревни были населены необычайно густо — до ста семей.
Бить можно либо по голове, либо по животу. Разин, отправив есаулов поднимать крестьян, ударил государство по утробе. Убранный хлеб остался в закромах. В Москву и Нижний Новгород привоза не было.
Максим Осипов разъехался с Харитоновым возле Уреня, верстах в шестидесяти от Симбирска. Здесь на постоялом дворе ночевали служилые, едущие в полки засечных воевод. С Максимом было полсотни казаков. Едва завидев звонницу уренской церкви, они изготовили легкие донские пищали и сговорились, где встречаться, если придется утекать.
Толпа стрельцов и уренских казаков на площади особенно насторожила их. Максим подумал, что следовало выслать соглядатаев… Пятидесятник, перекрестившись для чего-то на сырую церковную луковку, двинулся к Максиму. Тот невольно сжал коленями арчак и напряженные бока коня.
Пятидесятник мрачно заглянул в глаза Максиму и заговорил негромко, словно бы на ухо коню:
— Сидит на постоялом атемарский помещик Панов с дворовыми людьми. Всех их десятеро, с саблями и пищальми. Вот бы их посечь.
— Али без нас невмочь? — укорил Максим, развеселившись.
Стрельцов и казаков было до трех десятков. Пятидесятник опять взглянул на маковку, и Максим понял, что ему не помощь нужна, а благословение. Для нападения на служилого человека стрельцам надо увериться, что Разин — сила постоянная и на его посланцев можно положиться. Иначе не стоит драку затевать.
Максим снял шапку с синим атласным верхом, извлек бумагу. Пятидесятник и стрельцы уставились на шапку. Единственный из полусотни грамотный казак осторожно взял бумагу и стал читать:
«Грамота от Степана Тимофеевича от Разина.
Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Хто хочет богу да государю послужить да и великому войску Донскому да и Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно изменников вывадить и мирских кровопивцев вывадить!
И мои казаки како промысел станут чинить, и вам бы иттить к ним в совет, и кабальные, и опальные шли бы в полк к моим казакам».
Грамота действовала сильней живого слова. За нею мнилась устойчивая власть. Пятидесятник и стрельцы с надеждой внимали чудесным словам, призывавшим к сопротивлению властям.
Читать дальше