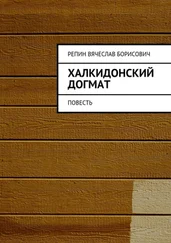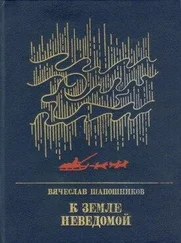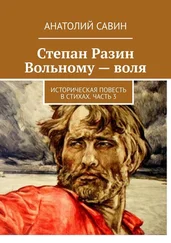— Да, то не кызылбашские базары…
Молчали. Душу стесняли нетерпение и тоска. Так в засуху бывает перед грозой — и ждешь ее, и отчего-то мутно, тошно. Один Максим чему-то улыбался. Он самый из пришлых поздний, в нем русские леса шумят. Случалось, Разин завидовал Максиму.
— Спать, молодцы.
Ушли. Сырая тишина плотно стояла за пологом шатра. В глубине вод ходили рыбы, несуетливо рыли норы раки, в зарослях вербы покрикивала ночная птица. Кто-то шуршит травой на склоне. Вдруг вздумалось, что в этой теплой мгле никто не убивает для пропитания, а звери, рыбы, птицы, гады сходятся для одной любви и продолжения рода. Любовь. Как ее мало было в жизни. Несколько лет с уворованной женой в Черкасске, в Кагальнике, персиянка — спехом, без души. В Астрахани нашлась одна посадская, ей сразу позавидовали — она-де знает тайные мысли атамана… Сказать бы им, что она знает. Кумыс, напиток бусурманский. Растревожил, не уснуть.
— Ромка! Далеко ли татары стали?
Две сотни астраханских татар пошли за Разиным после того, как он отпустил аманатов, заложников окрестных кочевых племен. Пошли с мешками для добычи и ремнями для ясыря. И со своими бабами.
— За балкой, батько. К ним человек приехал с того берега. Быдто бы княжеского рода.
— Веди!
Стремянный пошел вперед. Чуть намятые тропинки соединяли таборные стоянки разных ватаг или отрядов — навесы, шалаши, артельные костры с брошенными вокруг кошмами. В одну стоянку подбирались земляки и родичи, либо гулящие сбивались по единству склонностей, несчастий, самой судьбы. Спящий табор был тих и темен, лишь по угорам пересвистывались сторожа. Пересекли крутую балку с ручейком, так торопливо втекавшим в Волгу, словно она обмелеет без него. Стало слышно ноющее пенье.
— Татарове гуляют, — определил Роман.
Степан Тимофеевич подтянул пояс, оправил саблю. Татары придавали особое значение внешности. Богатство одеяния служило мерой силы. А если там действительно сидит какой-нибудь князек, перетянуть его к себе было бы кстати.
Плошки с жиром озаряли лица снизу, от скудно заросших подбородков, что придавало им дикий вид. Вокруг ковровой скатерти с чашей и пиалами снежного кумыса сидело человек пятнадцать. Лучшее место против входа занимал мурза из Астрахани, а слева от него, «у сердца», сидел худой и остроглазый татарин с почти невидимой бородкой, но ярко-черными, видимо крашеными, усами.
При входе атамана все вскочили, только мурза и гость склонились сидя. Разин знал обычай и язык, произнес установленное. Приезжий удивленно улыбнулся.
Он оказался из касимовских мурз — после падения Казани при Иване Грозном татары поселились в среднем течении Оки. Казанские татары и их мурзы хорошо знали его и его отца. Возможно, он преувеличивал свое влияние, но он был первым служилым татарином, предложившим Степану Тимофеевичу свою саблю.
— А не боишься, что поместья отберут?
Беседа шла по-татарски. Асан замочил усы в кумысе, ответил гордо:
— Мой отец Айбулат, и его отец, и отец его отца — все добывали славу и богатство саблей. Я знаю, что с тобой идет большая сила. Кровь моего отца во мне, и всех моих славных предков, и память о Казанском ханстве и Орде…
Разин привык уже, что, если человек накручивает до небес высокие слова, за ними непременно кроется земной расчет. Издалека, с Востока, к абызам и муллам пришла мысль, что в человеке живут солнечное и земное начала. Солнечное толкает человека на бескорыстные деяния, навстречу опасностям — не ради наживы, а ради высоких целей, священных слов… Но к солнечному непременно примешивается земное. Может быть, прежде чем Асана Карачурина извлек из кадомского теплого гнезда слух о великой армии, идущей из древних земель Золотой Орды, его обидели соседние помещики, имевшие руку в Москве. Или он опасался, что его собственные крестьяне оставят от теплого гнезда головешки. Степан не вдумывался в причины, если следствие устраивало его.
— Когда казанские татары ко мне придут, ты станешь их первым карачием, атаманом.
Асан прижал к груди растопыренную руку. На ней сияли перстни — грубые лалы, больная бирюза: старые, награбленные, верно, предками Асана в России. Разин добавил мимоходом:
— Атаманы мои пойдут к Саранску и Тамбову. Крестьяне станут присягать царевичу Нечаю, помещиков громить, ко мне сбираться. Твой дом будет цел.
Умница Карачурин не выдал радости. Но Разин, поймав минуту ее подъема, спросил о главном:
— Подпишешь грамоту в Казань?
Читать дальше