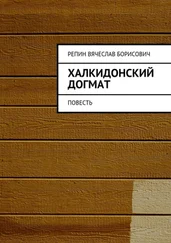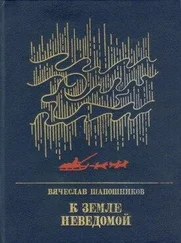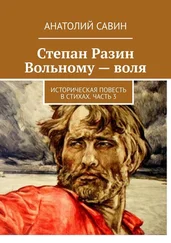Имя жены Степана Тимофеевича не сохранила прихотливая история.
Они прощались в Паншине, в ночь накануне выхода на Волгу.
Им не пришлось подолгу жить семейным куренем: несколько лет до его отъезда в Персию и эту зиму. Родных детей она ему не нарожала. Пасынка Разин привечал, радовался, замечая в нем то добрые, то шальные казацкие черты, однако что-то в его семейной жизни оставалось недосказанным, разомкнутым. Он тосковал по зрелому, отяжеленному годами телу жены, но скоро уставал от ее ревнивой требовательности, желания постоянно видеть его рядом, свойственного многим женщинам в этом возрасте.
Она не понимала, зачем им надо расставаться, зачем он вновь затеял опасное непослушание государю, однажды простившему его, зачем вообще перебаламучен и уже вовсю голодает отрезанный от России Дон. Ее ждала тоска разлуки и неопределенного, пугливого ожидания, и она, не называя главного своего мучения, по свойственной казацким женам целомудренной привычке говорила о внешних причинах общего недовольства. Ее угрюмое бормотание усиливало в черноте ночи собственные его сомнения, отчего Степан испытывал не жалость и прощальную любовь к жене, а нетерпение. Впервые он подумал с какой-то гибельной ясностью, что не вернется к ней.
— Афоньку береги, — сказал он, зная, что это ей приятно.
Она притихла и тяжело придвинулась к нему. А он, предчувствуя ее новый неутолимый порыв, подумал, что и в прощании она не знает грани, на которой казачка должна унять печаль по уезжающему мужу, чтобы домашней думой не горчить дорогу. Не следовало позволять ей ехать в Паншин.
Она всегда угадывала малейшую усталость и холодность Степана, но вместо того, чтобы по-женски примириться, переждать, резко и неуступчиво мрачнела. Даже упоминание о пасынке дало ей повод к укоризне:
— Убережешь его, коли он эдакий же вырастет, как ты… Кто нас убережет? Калмыки да татары всех в полон угонят.
Она умела бить в больное место. С уходом многотысячного войска Дон оставался оголенным перед немирными калмыками и крымцами. Москва не только хлеба, ни одного стрельца отныне не пошлет в Черкасск, покуда не разберется с Разиным. Калмыцким тайшам и едисанским мурзам, наверно, намекнули, что на Дону теперь живут изменники, которых можно грабить. Зимой казаки Разина дважды сшибались с ордами калмыков. Что будет летом?
— Не трусь, мы их порубим загодя.
Она не трусила, он знал. Она привыкла, выходя на Дон прополоскать исподнее, оглядывать заросшую ивами кромку берега и слушать землю — не стучит ли конское копыто. С отъездом войска женщинам и вовсе лучше не выходить из городков. Дай бог, если оставшиеся казаки оборонят Черкасск. На Волгу — шарпать торговые суда — не только голутвенные подались…
Вдруг она сказала убежденно:
— Степушка! Не свидимся.
— Типун тебе! — рассердился он, но тут же замолчал, почувствовав, из каких страдающих глубин вырвалось это пророчество.
Она заплакала легко и безнадежно.
Он слушал плач с такой же терпеливой горечью и холодком, с какой просеивал ее безудержные речи. Женщина, уязвляя мужа даже самыми выстраданными словами, все-таки вряд ли хочет, чтобы они осели в его памяти. Она предпочитает оставить по себе счастливое и жгучее воспоминание, а не укоризну. Заутра она раскается в ночных речах, так лучше их не слушать.
Плач размягчал ее, и обессиливал, и примирял со всем, что час назад казалось ей немыслимым. Счастливы плачущие, ибо они утешатся. Это о женщинах сказал знаток нищих душ. Степан знал, что будет дальше. Он положил руку на ее покатый затылок с заметным на ощупь шрамом слева — она никогда не признавалась ему, откуда шрам. Молчаливое наложение руки верней слов и ласк утешало ее. Вот она уже зашептала крупными сыроватыми губами в его заросшую бородкой щеку:
— Ладно, што хоть темно. На меня эдакую глядеть небось противно. Запомнишь страшную.
Он уже приготовился утешить ее привычными словами, обнять и усыпить — тоже привычно… Она с внезапной силой разжала его руки, схватила за голову:
— Ох, не могу я!.. Степушка! Прощай, любый мой! Коли бы ты мне сына зачал, все легше было бы! О-оспо-ди…
Он испугался, что крик ее услышит сторож за окном. Она с последней силой вжималась в расшитую подушку. В ней появилось что-то от крупного и доброго животного, смертельно уставшего от одиночества и незаслуженных обид.
Степан лежал, не находя утешных слов.
Читать дальше