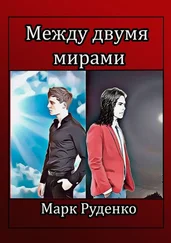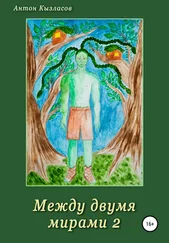Булат, что целовала мать,
Уже рубить не станет.
Река и лес зовут опять,
Просторы сердце манят…
Стихи, которые он любил при жизни, он воплотил после смерти.
На прощание я повесил на крест венок, сплетенный из сотни пылающих пестрых цветов, ради изготовления которого его солдаты разорили все цветники латышских крестьян. Белые бархатные левкои и красно-золотые бархатцы, паслен и подсолнухи — когда я уходил, над могилой юноши цвело зрелое лето.
По полевому телефону поступил приказ на марш. Я должен был галопом мчаться к своей роте, чтобы вместе со всеми отправиться в путь и продолжить преследование врага. В бумажнике у меня была картинка с изображением могилы, нарисованная добровольцем. Мы шли по дороге, которую мой друг вместе со своим патрулем расчистил для нас ценой своей жизни, до конца оставаясь верен приказу.
К вечеру перед нами снова показался враг. Шрапнель и гранаты русских полевых орудий с бурлением и грохотом, словно вихрь, проносились по крестьянским дворам, за которыми мы искали укрытия. Я сидел на ранце и, вооружившись несколькими бланками для донесений, писал родителям друга. «Поверьте мне: вы сможете в последний раз проявить свою любовь к нему, если примете его смерть достойно, как он того заслуживает, и как он сам желал бы этого! Пусть бог позаботится о том, чтобы его братья и сестры, к которым он был так нежно привязан, выросли и взрастили в себе такую же верность, храбрость, широту и глубину души, как он!» Однако, ах, как же я сам, когда писал эти строки, был далек от подобного смирения и мужества, которым я учил других!
И снова походы и бои, бои и походы… Олита (Olita) пала. У города Пренай (Preny) мы пересекли Неман. На подступах к месту под названием Звирданы (Zwirdany) мы во время ночной атаки разбили русские заграждения у озера Дауги (Daugi) после того, как мы днем штурмовали высотные позиции у Тоболянки (Tobolanka). На берегу реки Меречанка (Mereczanka), перед полыхающим городом Ораны (прим. пер.: польск. Orany, лит. Варена), мы попали под огонь. И направились вперед, в направлении Вилии, в новые бои. Каждый вечер на горизонте пылали и тлели деревни и сараи, словно факелы, которые сообщали отступающей русской армии, как далеко продвинулись немецкие колонны. Растерянные жители, словно тени, следовали по нашим дорогам вместе с детьми, свертками и тюками, проходя мимо разрушенных жилищ и растоптанных садов. Вокруг покинутых и разрушенных дворов выли собаки. Скот и лошади то появлялись, то исчезали из поля зрения. Равнодушным и усталым взором мы смотрели на все эти призрачные картины, которые повторялись ежедневно и ежечасно, и безразлично и сонно мы слушали суматоху громких приказов и выкриков, вопли «германский, германский!» раненых русских в лесу и в поле. Спать, нам хотелось только спать!
Обветшалый хлев в Винкноброщ (Winknobrosz) с его тусклым освещением укрыл меня от яркого света безотрадного сентябрьского утра, дождя и грозы. Охапки соломы, на которых я лежал, подстелив свою серую шинель, источали слабо выраженный сладкий запах гниения и наполняли отяжелевшую одежду, пропитанную дождем и грязью, влажным теплом. От тел двух уставших гнедых лошадей роты, с которыми я делил это затхлое, продуваемое сквозняком помещение, испарялся пот. Он стоял серой дымкой в ярких лучах света, которые проникали через дыры в деревянной стене и зазоры в соломенной крыше. Через зияющие трещины и щели грубой деревянной двери, разделявшей нас и бедную клетушку польского деревенского кузнеца, просачивался беспокойный шум телефонистов и офицерских денщиков, смешанный с плаксивой польской речью и раздававшимся время от времени плачем ребенка, который качался в люльке посреди комнаты, переполненной бедняками и их зловонными испарениями. Зуммер телефона жужжал и жужжал… Все было, как в тот в вечер в Зайле. Почему люди и предметы снова собирались в одну картину, воскрешая призрак мучительного воспоминания, и превращали все ночи в ночи смерти? Сегодня, завтра — сколько еще это будет повторяться?
Из-под сырых складок шинели над моими коленями в полутьме был виден свет двух двигающихся точек. Это были радиевые стрелки плоских, маленьких наручных часов из стали, на которых время в этот день отдыха после многонедельных боев и походов протекало устало и вяло, один час уныло перетекал в другой.
Я посмотрел на блеск маленьких часов, сверкавших посреди этой беспросветной бедности, и постарался услышать их тиканье. Я поднес их поближе, и мне показалось, что я услышал звук неутомимого ходового механизма, напоминавший сердцебиение живого существа. Я так часто пытался внушить себе, что эти часы — маленький кусочек жизни, который всегда рядом со мной. Потому что этот тихий пульсирующий механизм был заведен еще той рукой, которая была мне милее всех человеческих рук на земле, и которая сейчас в могильной тишине покоилась над прохладной сталью меча. Часы Эрнста Вурхе, которые прошли со мной бои при Немане и битву при Вильне (Wilna) и искали дорогу к его родной земле, к его родителям, в Силезию… Когда я утром того несчастливого дня, последовавшего за роковой ночью его гибели, поспешил к мертвому другу, его губы, пульс и сердце уже давно молчали, однако, когда в моей руке оказались его маленькие часы, я услышал тихий, осторожный стук механизма, заведенного им. Эта жизнь была частичкой его жизни, и у меня на мгновение возникло глупое и горестное чувство: мне показалось, что я держал в руках сердце друга.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу