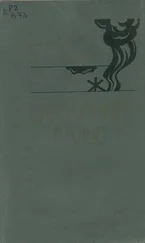— Не, нам бы животину лучше, мы конным хребтом существуем…
И если перед ним открывалась чудесная панорама будущих межпланетных трасс и, подшучивая, мы говорили ему, чтобы не забыл захватить, когда полетит на Юпитер, побольше лепешек на дорогу, он только хмуро отворачивал серое, иссеченное морщинами лицо.
— Не… Куды лететь? Мы на земле кормимся, земля нам преподавает жизнь.
Он весь был в прошлом и всеми своими корнями врос в уходящий век — этот старик, точно целиком воплотивший в себе бессмысленный идиотизм старой деревенской жизни. И нам казалось, что ничто новое не найдет себе уже, конечно, даже и крохотного местечка в его сознании и душе, и нет таких слов, которыми хоть на миг можно было бы пробить толщу его косности, и не найдется такой искры, которая хоть на миг заставила бы вспыхнуть что-то в холодном и равнодушном его сердце.

Первые законы Советской власти вызвали радость, надежду, уверенность в завтрашнем дне, в крепости новой жизни и на тех далеких окраинах бывшей царской империи, где крестьяне-дехкане влачили жалкую, полурабскую жизнь. Об этом говорит картина "Ленинский декрет" художника Г. Брусенцова.
Так мы думали, и вот в этот день, в этот праздничный канун, который навсегда сохранится, вероятно, в моей памяти, оказалось, что мы ошиблись…
Когда пришел приказ из штаба, на коротком совещании выяснилось, что, защищая обе переправы, неизбежно придется разбить и без того ничтожный отряд на две или даже на несколько частей. Между тем дробить силы было и невыгодно и опасно, и кто-то предложил тогда отряду целиком идти на брод, где намечалась главная неприятельская переправа, а на мосту оставить за щитом одного пулеметчика со старенькой нашей машинкой. Пролет был узкий, и, концентрируя огонь, на некоторое время пулемет мог совершенно закрыть его завесой из свинца. Это было резонно и единственно правильно, и, вероятно, не было в отряде человека, который с первой же минуты не подумал бы об этом. Однако сказать не решился никто, потому что всем было ясно, что тот, кто здесь останется, назад уже не вернется, а этим человеком, как единственный уцелевший пулеметчик в отряде, мог быть только Федя Кривошеев…
Но мы слишком любили все этого мальчика, чтобы своими руками послать его на смерть. И когда это было все-таки сказано, все замолчали вдруг сразу, и наступила томительная и напряженная тишина; слышно было только, как падают шишки с сосен в лесу и плещется ночная рыба под крутым берегом.
Командиром у нас был Игнатий Иванович Нестеренко, фрезеровщик с одного из южных машиностроительных заводов. Это был железный человек: никто и никогда не видал ни разу, чтобы он заколебался в трудную минуту, чтобы в тяжелую минуту у него дрогнуло сердце или рука. Но тут и он молчал долго, так медленно, так старательно и аккуратно свертывая и отглаживая карту на коленях, как будто от ее сохранности и зависел исход дела. Наконец он сказал глухо, голодом, в котором прозвучали непривычные для нас, хриплые нотки:
— Ну что ж… Трудно, конечно, но этого… революция!.. Этот случай, ребята, будет образцом… этого…
Он спутался, сделал судорожный глоток, опять помолчал секунду, потом поднялся быстро и решительно и сухо и твердо сказал:
— С пулеметом остается Кривошеев! Окоп! Щит! Да поживей!
И все засуетились, хватая лопатки и колья, а Федя Кривошеев один отошел в сторону и присел над откосом на берегу. О, как мучительно захотелось ему, вероятно, жить, какая острая тоска подкатила, вероятно, к сердцу в эти минуты, когда решена была его судьба! Надо же было, чтобы именно ему, так любившему жизнь и так жадно тянувшемуся к ней каждой своей частицей, выпал этот жребий! Вдалеке, за холмами, где подтягивались наши части, слышны были глухие орудийные раскаты, и они возвещали, казалось, о близкой победе, о наступавшем празднике, к которому Федя так любовно готовился вместе с другими. Неужели другие встретят этот день уже без него и никогда он не увидит уже торжественных алых полотнищ?
Над перелеском занималась, разгоралась заря, уже начинали сверкать под первыми лучами восходящего солнца тонкие нити золотистой осенней паутины на деревьях, и все полно было, казалось, опьяняющей радости. Неужели ему никогда не придется уже ее ощутить? В ушах еще звучали собственные слова о близком сказочном мире, полном радужного счастья. Неужели ему никогда не суждено уже изведать его? Эта мысль сжимала сердце, под ее тяжестью сутулились плечи, тяжело становилось дышать…
Читать дальше
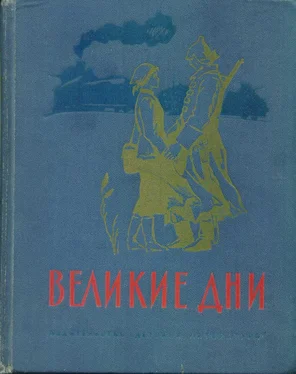

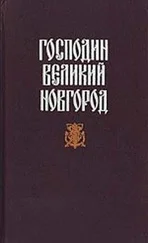


![Николай Олейников - Боевые дни [Рассказы, очерки и приключения]](/books/30485/nikolaj-olejnikov-boevye-dni-rasskazy-ocherki-i-p-thumb.webp)