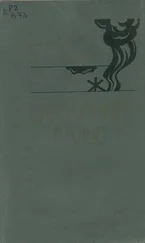Я не знаю, откуда все это у него бралось, потому что он был почти неграмотен, с трудом считал до ста и с трудом мог подписать свою фамилию; может быть, в этом сказывался природный талант утописта, может быть, это была просто острая реакция на ту очень тяжелую и безотрадную жизнь, в которой прошли его юные годы и которой инстинкт самосохранения заставлял противопоставить что-то другое, большое и радостное, на что можно надеяться, во что можно верить и за что можно бороться, видя это впереди. Но так или иначе, а почти неграмотный и не имея никакого багажа знаний и культуры за спиной, он витал в несуществующих мирах свободно, как Уэллс, чутьем угадывая при этом вполне реальные очертания завтрашнего дня. Ибо разве не претворяются сейчас его фантазии в действительность? Конечно, в его изложении было много наивного и примитивного, заимствованного из детских сказок о летающих коврах и волшебных палочках, замках и колесницах. Но все это выходило у него как-то удивительно искренне, непосредственно, трогательно и хорошо, и, главное, в каждом его слове чувствовалась глубочайшая вера, что именно так и будет все это, как он себе представляет. Он вдохновлялся, он весь преображался, он точно переносился уже в это сказочное будущее, которое рисовалось ему впереди. Вероятно, в такие минуты, оборванный и грязный, он уже ощущал себя роскошным, как Крез, и, голодный, чувствовал себя пресыщенным, как Лукулл. И это заражало, это передавалось — и взрослые, бородатые мужики часами могли сидеть и слушать его, раскрыв рты и стараясь не проронить ни слова. И как-то легче бывало потом идти вперед, точно где-то вдалеке загорался и звал к себе чудесный огонек.
Но был один человек среди нас, который оставался неизменно равнодушным к любым таким импровизациям, как бы ни были увлекательны и заманчивы миры и уголки, по которым водил нас Федя. Это был старик, по фамилии Рябоконь, дед, приставший к нам как-то в одной из попутных украинских деревень и с тех пор не покидавший уже отряда. Был он очень стар, с белой как снег бородой, с выцветшими от времени глазами, худой и длинный, как жердь, и настолько хилый уже, что с трудом волочил на переходах сгибавшиеся в коленях ноги. Казалось, ему бы лежать уже на печи, жевать корки, размоченные в воде, парить на ночь ноги в чугуне с ромашкой и ждать спокойно конца, а он увязался и упорно шел с нами все дальше и дальше от родного села, пыля на проселках нелепыми своими огромными лаптями, набираясь вшей, обрастая чудовищной грязью и день ото дня все больше начиная походить на выходца из пещерных времен. И ружье у него было какое-то допотопное, тяжелое, пистонное, с дулом, которое напоминало трубу из оркестра, и с такой отдачей, что от стрельбы у него вспухало плечо. Он называл его "рушница" и менять ни за что не соглашался, потому что, как он утверждал, к этому ружью у него и глаз был "пристрелявши", и "пупочка", то есть мушка, на нем была будто бы какая-то особенная, так что по ней хоть комара влет бей, а новые — что в них за толк?
Кто его знает, что именно побудило его бросить и дом, и хозяйство, и старуху, которая, когда он уходил, с плачем проводила его до околицы и сунула на дорогу три ржаные лепешки в цветной ситцевой тряпочке, — бросить все это и на старости лет пойти таскаться с "рушницей" за спиной по мятежным и буйным просторам страны. Он был очень неразговорчив и, когда у него спрашивали, односложно отвечал только, что беляки сеять не дают и все тыквы пообрывали на огороде, и больше от него ничего нельзя было добиться. Конечно, если вдуматься, в скупых его словах заключался очень большой и глубокий смысл, и это была, собственно, целая программа борьбы нищего деревенского бедняка за свое право на труд и жизнь, но тыквы почему-то возбуждали у нас смех, и сам он, насквозь пропитанный психологией мелкого собственника, казался ужасно серым, ограниченным и туповатым — этот старик, олицетворявший собой все вопиющее убожество косной и темной прежней нашей деревни.
И когда Федя начинал импровизировать, он равнодушно садился обычно, поджав под себя огромные худые ноги, и либо засыпал через несколько минут, в самом патетическом месте оглашая вдруг воздух храпом, либо слушал, жуя сухарь и моргая бесцветными глазами, с таким бесстрастным и каменным лицом, что и скучно и досадно делалось на него смотреть. Жизнь не научила его мечтать, он решительно ничего не понимал и не чувствовал, и если, например, разговор шел о чудесных машинах будущего и, подтрунивая и посмеиваясь, у него спрашивали, не заведет ли и он себе электроплуг, чтобы пахать огород под тыквы, он отвечал, не улыбаясь, вяло и неохотно:
Читать дальше
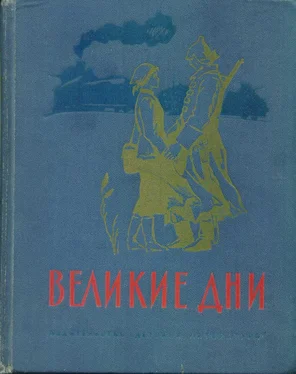
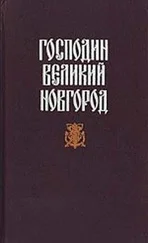


![Николай Олейников - Боевые дни [Рассказы, очерки и приключения]](/books/30485/nikolaj-olejnikov-boevye-dni-rasskazy-ocherki-i-p-thumb.webp)