— Откуда вы родом? — спрашивает Лафоре.
— Из Ангулема.
— Знакомы ли вы с герцогом д’Эперноном? — задает новый вопрос капитан, зная, что герцог — губернатор этого города.
— Да, — отвечает Равальяк и прибавляет: — Это католик, позволяющий себе многое, запрещенное церковью.
Лафоре доложил Генриху о незнакомце.
— Обыскать его, — приказал Генрих, — и если у него ничего не найдут, прогнать и запретить, если он не желает быть высеченным, приближаться к Лувру и к моей особе.
Поверхностный обыск не дал результата. Равальяка отпустили, и он снова оказался во власти преследующих его маниакальных идей. Беседы с отцом Обиньи, уклончивые ответы ученого иезуита не внесли успокоения в его смятенную душу.
Еще раз, уже на улице, он пытается приблизиться к королевской карете с возгласом:
— Во имя Господа нашего Иисуса Христа и девы Марии я обращаюсь к вам, государь!
Напрасно — слуги отталкивают Равальяка, карета скрывается из виду.
Именно в это время, по-видимому, Равальяк, совершенно лишенный средств к жизни, получил деньги от дю Тилле, приятельницы д’Эпернона. Правдоподобно ли, что ни у нее, ни у отца Обиньи — в отличие от капитана Лафорса — не возникло никаких подозрений при разговоре с этим человеком, явно не в своем уме, все время твердившим о божественном отмщении?
В апреле и в начале мая 1610 года обстановка во Франции еще более накаляется. Война близка — король не скрывает намерения вскоре покинуть Париж, чтобы возглавить армию в предстоящей кампании. Идет война и внутри королевского семейства. Мария Медичи демонстративно обличает неверного супруга. Чтобы восстановить домашний мир, Генрих готов на уступку: короновать Марию Медичи, это сделает еще более проблематичной возможность развода с ней и жениться на принцессе Шарлотте. Однако эта же мера повышает права Марии Медичи стать регентшей при своем малолетнем сыне в случае смерти короля. 13 мая происходит коронование.
«Она будет причиной моей смерти», — пророчески замечает Генрих. Он, конечно, не может знать, что Равальяк решил отложить осуществление своего плана до коронации. Ему неизвестно, что уже несколько дней в различных французских городах и за границей, в Брюсселе, в Кельне, Ахене ходят слухи об убийстве короля Франции. На 15 мая назначена королевская охота, на 16-е — торжественное вступление в столицу королевы, на 17-е и 18-е — большие празднества по случаю свадьбы герцога Вандома. А 19 мая король должен отправиться на войну. Только придворным были известны эти планы. Ясно, что лишь 14 мая, когда не было торжеств, нож ангулемца мог пронзить грудь Генриха. 14 мая Генрих отправился в большой карете на прогулку. На узкой улице путь кареты неожиданно преградили какие-то телеги. Равальяк успел вскочить в экипаж и трижды нанести королю удары кинжалом. Раны оказались смертельными…
В первые часы после убийства д’Эпернон предпринимает лихорадочные усилия, чтобы захватить власть. Напрасно, она ускользает от него. Правительницей Франции становится Мария Медичи, а ею управляют супруги Кончини.
Несколько суток после смерти Генриха д’Эпернон держит Равальяка под своим контролем. Именно в это время его посещают несколько священников и многозначительно советуют: «Сын мой, не обвиняй добрых людей!»
Судьи парижского парламента, производившие следствие, приложили особые усилия, чтобы нечаянно не обнаружить сообщников убийцы (это было невыгодно никому из власть имущих), сознательно не расспрашивали свидетелей, которые могли пролить свет на мотивы преступления. Согласно официальной версии, Равальяк действовал в одиночку, по собственному почину. Да и самому душевнобольному убийце казалось, что так и было на самом деле — ведь прямо его никто не подбивал на убийство короля! «Признание» в таком смысле, сделанное убийцей во время пытки, не было занесено в протокол, где лишь значится, что оно является «секретом суда». Об этом же Равальяк заявил на эшафоте, за минуту до начала жестокой казни. Ему отказывают в отпущении грехов, так как он не назвал сообщников.
— Дайте мне отпущение, действительное при условии, если я сказал правду, уверяя, что не имел сообщников, — говорит осужденный.
— Хорошо, но если ты солгал, твоя душа станет добычей ада, — предупредили Равальяка.
Он с готовностью принял отпущение грехов на таком условии.
Немало историков считали это доказательством, что у Равальяка действительно не было сообщников. Однако, как правильно замечает французский исследователь Ф. Эрланже, поведение Равальяка доказывает только то, что он сам верил, будто действовал в одиночку.
Читать дальше
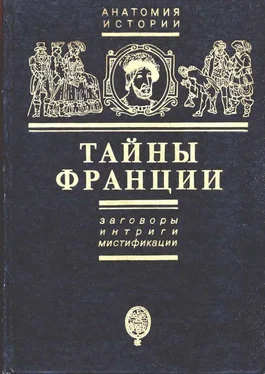

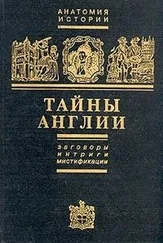

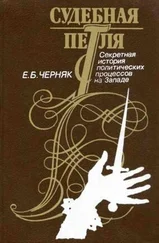
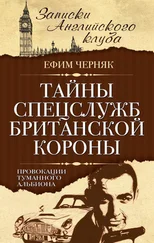
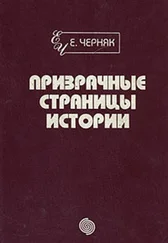
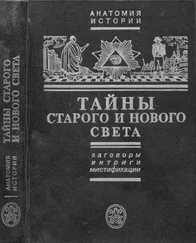
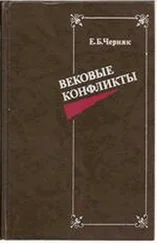
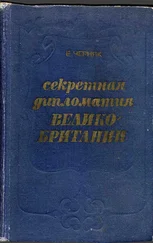
![Ефим Черняк - Невидимые империи [Тайные общества старого и нового времени на Западе]](/books/433461/efim-chernyak-nevidimye-imperii-tajnye-obchestva-sta-thumb.webp)