Стоит напомнить слова руководителя испанской разведки графа Фуентеса, сказанные еще в 1602 году одному из агентов Бирона:
— Первое дело — убить короля. Надо устроить это так, чтобы уничтожить всякие следу соучастия.
Однако все следы уничтожить не удалось. В январе 1611 года Жаклин д’Эскоман покинула монастырь, где ее содержали после тюрьмы, и возобновила свои попытки вывести заговорщиков на чистую воду. На этот раз она обратилась за помощью к королеве Маргарите — первой жене Генриха. Маргарита выслушала Жаклин и попросила прийти на следующий день. Когда та явилась и сообщила дополнительные подробности, ее помимо Маргариты внимательно слушали скрывавшиеся за портьерой д’Эпернон и несколько лиц, посланных Марией Медичи. По словам Жаклин, Равальяк часто встречался с дю Тилле, маркиза Верней надеялась провозгласить своего сына королем, выйти замуж за герцога Гиза, герцог д’Эпернон должен был стать коннетаблем Франции. Д’Эпернон, не выдержав, выскочил из-за укрытия, обрушившись с бранью и угрозами на Жаклин. Д’Эскоман была снова брошена в тюрьму, за ложные показания ей грозила по действовавшим тогда законам смертная казнь. Вызванный в качестве свидетеля слуга дю Тилле сообщил, что не раз видел Равальяка у своей госпожи. Процесс стал принимать нежелательное для властей направление. В конце концов его прервали, «учитывая достоинства обвиняемых». Президент суда был заменен ставленником двора. В тюрьме Жаклин по поручению Галигаи посетил епископ Люсонский Ришелье (впоследствии он использовал полученные им показания против Марии Медичи). Жаклин должна была быть либо оправдана, либо отправлена на виселицу за дачу ложных показаний, чего рьяно добивался д’Эпернон. Несмотря на давление со стороны двора, голоса судей разделились поровну. Д’Эскоман была приговорена к вечному заключению. Ее продолжали держать в темнице даже после падения Марии Медичи и Кончини — так опасались показаний этой «лжесвидетельницы». Она и умерла в тюрьме. Не избегнул заключения и другой человек, пытавшийся раскрыть заговор. В 1616 году был брошен в Бастилию капитан Лагард, которого освободило только падение Марии Медичи. Зато это падение сопровождалось, как уже отмечалось, убийством Кончини и казнью его жены: их объявили участниками убийства Генриха IV.
Кажется, единственным, на кого не пали подозрения в соучастии, был принц Конде, вернувшийся во Францию вскоре после смерти короля.
Правда, и подозрения против главных участников заговора в какой-то мере еще прямо не доказаны. По существу наши сведения восходят лишь к показаниям двух лиц — капитана Лагарда и Жаклин д’Эскоман. Можно поставить под сомнение и те, и другие. О свидетельстве Лагарда мы знаем из составленного им мемуара, который ныне хранится в Национальной библиотеке в Париже. Капитан написал его, находясь в Бастилии, откуда был вскоре после этого выпушен на свободу. К этому времени Кончини и его жена были мертвы, а Мария Медичи, отстраненная от регентства, была главным противником маршала де Люиня, любимца молодого короля Людовика XIII (Люинь оставался у власти до своей смерти в 1621 году, после чего настало время для Ришелье). Мария Медичи в союзе с тем же д’Эперноном подняла мятеж против нового временщика. Поэтому в своих показаниях Лагарду было, видимо, выгодно обвинить бывшую регентшу и д’Эпернона в причастности к заговору, приведшему к убийству Генриха IV. В показаниях Лагарда есть не очень правдоподобный пункт, будто он видел Равальяка в Неаполе вместе с бывшим секретарем маршала Бирона, неким Эбером, которому будущий убийца привез письма от герцога д’Эпернона.
Свидетельства д’Эскоман не подкреплены другими прямыми доказательствами. Они были опубликованы в 1616 году еще в правление Марии Медичи, когда ее правительство также боролось с мятежом крупных вельмож и было заинтересовано обратить против них народный гнев. Но свои показания Жаклин сделала явно до 1616 года. Наконец, не исключено, что существовал «испанский заговор», но выглядевший иначе, чем мы себе его представляем на основе имеющихся документов.
Стоит добавить, что и главный сподвижник Генриха IV' герцог Сюлли, и позднее кардинал Ришелье прямо заявляли, что король пал жертвой иностранного заговора. Фактом является то, что власти в Испании и ее владениях в мае ожидали со дня на день убийства Генриха и даже сообщали о нем в своей переписке раньше, чем оно произошло на деле. Вряд ли это могло быть лишь случайным совпадением желаемого и действительного. Стоит добавить, что еще в прошлом веке исследователи перерыли архивы Испании и других габсбургских держав, пытаясь найти ключ к тайне. Архивы Брюсселя — столицы Южных (Испанских, а позднее Австрийских) Нидерландов, — перевезенные в Вену, содержат зияющую лакуну с конца апреля по 1 июля 1610 года. Исчезли документы, относящиеся к этим месяцам, и в Турине, где хранились архивы испанских наместников в Северной Италии.
Читать дальше
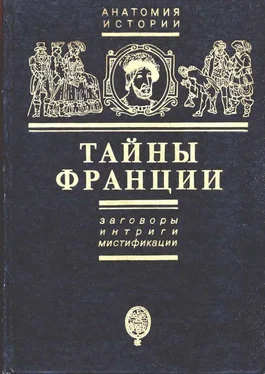

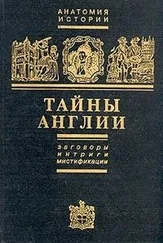

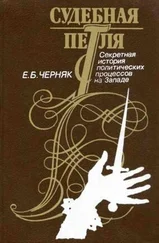
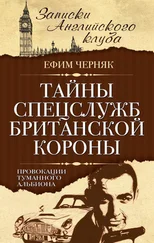
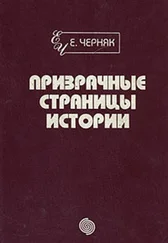
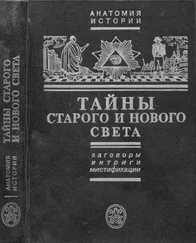
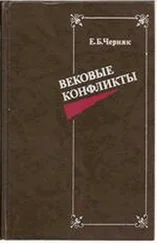
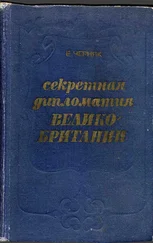
![Ефим Черняк - Невидимые империи [Тайные общества старого и нового времени на Западе]](/books/433461/efim-chernyak-nevidimye-imperii-tajnye-obchestva-sta-thumb.webp)