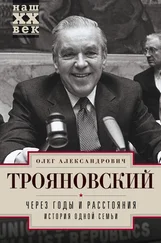— Чего вы вдруг об этом заговорили?
— Не знаю. — Ивасик глянул на меня искоса. — Так собі. А взагалі все буде добре. (А вообще все будет хорошо).
— Что все ? (Что все?)
— Що вас турбує. (То, что вас беспокоит).
— Вы, я вижу, неплохо подготовились к экзамену.
— А як же. — Отвечал Ивасик скромно.
Киев, 1996 год
Сказанного достаточно, чтобы сделать любые выводы
Вот перед вами белый лист былого.
Cтраница — топкая страна.
В ней крылья наши.
Имена.
Георгий Фенерли
С Жорой я познакомился раньше, чем его увидел. Мой товарищ — художник Борис Лекарь показывал в мастерской свои работы (у меня была привилегия водить к нему знакомых), и среди них непременно этот портрет. Портрет Георгия Ф. — философа-метафизика. Так художник его представлял. Он показывал работы с некоторой поспешностью, пробежкой перенося их со стеллажа на мольберт (к концу показа темп убыстрялся), но портрет выделял, акцентируя изображение названием и даже паузой (минута молчания!), подчеркивающей значительность момента. Давал насмотреться. Философ-метафизик. Ого. Зрители напрягались. Ишь ты, метафизик. Признаюсь, я отнесся скептически. Чего вдруг? Хотя портрет будоражил. Лицо занимало всю поверхность работы, будто человек прильнул к оконному стеклу и в таком состоянии пытается что-то сказать. В распахнутые черные глаза художник добавил безумия. Смолоду такое выражение в них присутствовало. Это я увидел позже на фотографии. Жаль, я не расспросил Жору об истории портрета. Возможно, и написан он был с помощью такой фотографии, и художник был озабочен не столько живописной задачей, а приданием своей натуре надмирности, к которой всегда стремился. Не помню, было ли тогда в ходу само это слово — надмирность , но понятно, что речь шла о некоей экзальтации, личному производству по переработке (в очередной раз) пошлой материи в нечто духовное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Выраженная в названии публичность этого процесса настораживала. Но Жора оказался одним из самых спокойных и рассудительных людей, каких только можно вообразить. Его можно было бы назвать тихим , если бы не некоторая двусмысленность, которая кроется в таком определении.
Борис нас с Жорой и познакомил лет сорок тому назад. Обстоятельства я сейчас не помню, время было древнее, не намного ближе античного, если измерять личную историю в терминах этой науки. Страна жила как персонал в доме престарелых, с надписью не беспокоить и собственными заботами, пока клиентов переворачивают с боку на бок, пичкают лекарствами, а верткие помощники потягивают чутким носом застоявшийся воздух, добавляя в него от собственных флюидов. Все это осознается потом, когда под предлогом проветривания в доме разбивают окно, сквозь которое, как на пожаре, тащат все подряд. А то самое несвежее время отмечено Жориными стихами, живущими предчувствиями, ощущениями замкнутого пространства, в котором движение носит характер маятника, от стены до стены, и рифма мечется, как птица в клетке…
Тревога летних дум,
Тревога дум залетных…
Когда фонарь-колдун
Качается за окнами,
Когда
В окраины земель течет вода
И годы
В окраины надежд текут –
Ни дна, ни броду.
Там сказок и печалей
Качания случайны,
И черный бег дорог –
Куда зовущей встречи?
И ночи черный грог
На мир пролит из течи
Пустынь…
Жил Жора всегда в местах прозаических. Первым жильем, где я побывал, была квартира на улице с оглушительным названием, а точнее, именем — Шамрыло. Это название представляется мне сказочной роскошью, в духе языческого эпоса народов Севера, первая — маска Шам, вторая — подлинное пугающее состояние натуры из застывшего тюленьего жира и крови. К моменту нашего знакомства первая северная часть имени казалась несменяемой и дарила эпохе показной оптимизм.
Шаманское имя Жоре бы подошло. Он не сомневался в магическом устройстве мира, и искал дверцу, чтобы туда протиснуться. Как сказал бы Жора, преодолению невозможного противостоит не реальность, а отсутствия воображения.
В том первом его жилище все было аккуратно, подогнано одно к одному, комната представляла замкнутый мир, прочая его часть находилась не только за стеной, но где-то в отдельном пространстве. Жену (Таню) я видел раза два, не больше, и теперь не могу вспомнить ее лица. Кажется, она была парикмахершей. Таня была второй, о первой жене я только слышал (не от Жоры), та была искусствоведом, водила музейные экскурсии и после развода оставила себе Жорину фамилию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу