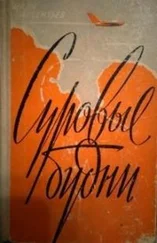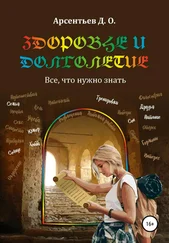«О господи, за что такие напасти? За что? Теперь хоть в лес уходи, труби волком. А нет — каторга, кандалы, погибель, — кручинился Евдоким, и глаза его блестели злыми слезами. — У-у! будьте прокляты все эсэры, эсдэки и анархисты! Вся шайка Череп-Свиридовых, Чиляков, а вместе с ними Попасовичей и Трагиков, пропади они пропадом.
Деваться некуда. Некуда деваться… А может, махнуть в Самару? Скрыться в большом городе на время? Неужто родная тетка Калерия прогонит в трудный час? — метался Евдоким и заключил уныло: — Прогонит… Не та она стала за последние годы, изменилась — страх! А ведь какая была добрая, отзывчивая, красавица».
Покойной матери Евдокима далеко было до сестры своей. То-то диву дались все, когда пригожая, славная Калерия вышла за лохматого вдовца Фому Барабоева, похожего на степного волкодава. Сама вышла, никто ее в шею не гнал. Теперь-то Евдокиму понятно, почему обрекла она себя на страшную жизнь: лишь бы не оставаться лишним ртом в обнищавшей семье без вести пропавшего волжского шкипера.
Фома Барабоев — подрядчик крючников, отпетый скупердяй, так тиранил бедную Калерию, так избивал ее ни за что ни про что, что она родила мертвыми двоих младенцев, а потом и сама, видать, умом тронулась… Дай ей волю, так она с утра до ночи будет стоять на крыльце да вытряхивать все что ни попадет под руку: хоть половик, хоть исподницу или ветошку, место которой на свалке.
Но не только отзывчивость и щедрость душевную утратила тетка, ей даже чувство родства стало чуждым. Когда года три тому назад Барабоев, напившись до беспамятства, утонул в Волге, с теткой произошли странные превращения: она вдруг спуталась с какими-то сектантами, откачнулась начисто от православной веры, костит вовсю духовенство и с ним вместе зятя Симеона да на бедность свою плачется. Никого из родни на порог не пускает, поторговывает на Воскресенском базаре; тем, вроде, и живет. И внешне изменилась она поразительно: стала, как говорят в Самаре, «женщина на любителя». Лицо моложавое, как у девушки, а телом обильна — так даже чересчур…
Как-то прошлой зимой Евдоким по пути в Кинель завернул к ней погреться, попить чайку по-родственному. Тетка встретила его на крыльце — трясла какое-то тряпье. «А-а! Племяш пожаловал, не забыл бедную тетю… Ну, заходи, заходи, полюбуйся, в каком убожестве оставил меня муженек, ни дна ему ни покрышки! Угощать, слышь, нечем. Чайку ежели только!..»
Но не успел Евдоким ответить, что не против стаканчика-другого, как она обрадованно сказала: «Ну, а не хочешь, так и не надо. Оно ни к чему чаи распивать, волжская водица животу пользительней».
Евдоким не нашелся что ответить, поддакнул кисло, окинул унылым взглядом пышное теткино тело, колыхавшееся в такт взмахам рук, — разговаривая, она продолжала трясти шматье, — подумал язвительно: «То-то расперло тебя от волжской водицы, Калера-холера…». И поспешил распрощаться.
После того гостевания больше к ней ни шагу.
Но сейчас, когда беда взяла за глотку, тут как ни вертись, а кроме тетки, помочь некому.
…Талая степь. Выветренные глинистые кряжи, балки, еще не просохшие, с чахлыми почерневшими клочьями сугробов.
До Смышляевки Евдоким добрел в сумерках, свернул к станции. Когда подошел пассажирский поезд на Самару, забрался в темный угол вагона, поехал без билета. По дороге рассудил здраво, что, пожалуй, правильней и безопасней будет заявиться к тетке ночью попозже, чтобы ни одна собака не знала, не видела.
На вокзале в Самаре затерялся среди пассажиров и праздной публики — полупьяной и оттого шумной. Пошатался, чтобы оттянуть время, по привокзальной площади. Возле дощатого балагана, где потемнее, расположилась кучка крестьян. Рядом свободная скамья, но они уселись прямо на булыжник. Чем-то убогим и знакомым, как из далеких степей, повеяло на Евдокима. Истрепанные котомки, мешки, лукошки, грязные заплатанные зипуны… Все это неуклюже-уныло, как и сами мужики. Испитые тревожные лица полны тупого недоумения, глаза бегают из стороны в сторону. Слышны сиплые, словно надтреснутые голоса. Временами они звучат со странной, по-детски наивной интонацией. Мужики жмутся подальше от шума и света, Евдоким — тоже.
Присел на край скамьи. Мужики покосились, на него, замолкли. Он тоже помолчал, затем спросил для приличия:
— Как, земляки, в деревне тихо?
Те исподлобья поглядели на него, переглянулись с опаской. Один в картузе с переломанным козырьком покашлял в кулак, ответил невнятно:
Читать дальше