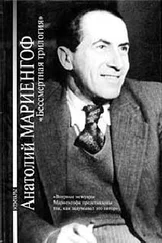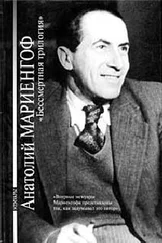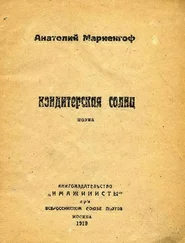Старик сказал:
— Брауншвейг — хороший город. В нем родился Ганс Юрген, изобретатель прялки.
«Нет, этот господин Больхаген, этот морщинистый гриб положительно издевается надо мной», — решила молодая женщина.
Ей пришлось снова придерживать груди: «О, совершенно напрасно господин Больхаген столь уменьшительного мнения о Брауншвейге. Герцогский двор во всем превосходит двор прусский. Какое величие! Какое великолепие! Балы, оперы, концерты, охоты, прогулки. Там уже никто не будет закатывать глаза к небу при виде фижм.
Известно ли господину Больхагену, что в Брауншвейге можно встретить сколько угодно кавалеров, подкладывающих китовый ус под фалды кафтана. Какое подражание женской моде! Что сказал бы король Фридрих-Вильгельм, увидев подле своего трона мужчину в кринолине? А между тем это так элегантно!»
Христиан-Август провел ладонью по волосам: «Ах, не чересчур ли жена проворна на язык: тараторит, тараторит, тараторит». А когда Иоганна была невестой, генерал говорил ей: «Вы щебечете».
— Кроме того, господин Больхаген забывает, что я мать.
Умный старик усмехнулся: «Оказывается, это он забывает, что она мать».
Иоганна-Елисавета поправила чепчик на бритой головке своей дочери:
— Не успеешь оглянуться, как Фике станет девушкой. Или вы, может быть, полагаете, господа, что я собираюсь выдать ее замуж за сына аптекаря?
У Фике язычок «сделался сухим, а щеки пунцовыми». На крепостном валу трепетали липы.
Мадмуазель Бабет, уложив Фике, вышла по нужде. Как только девочка осталась одна в комнате, она оседлала подушку и стала скакать по кровати. Она скакала до изнеможения. Вернувшаяся воспитательница застала ее тихой, улыбающейся.
Бабет задула огонь.
Фике принялась считать, прижимая к ладоням пальчики, покрытые болячками: «Первая за императором Карлом, вторая за русским королем, третья…»
Всю ночь золотушной девочке снились короны, короны, короны.
У Фике на коленях лежала большая французская книга в красном переплете. «Фике должна знать много басен Лафонтена, очень много. Она дурнушка, ей надо быть умной и образованной, чтобы какой-нибудь принц из соседей взял ее в жены» — так все говорили: и мама, и мадмуазель Бабет, и господин пастор.
Третьего дня у Фике уже отняли куклы. Она не плакала. Она теперь будет играть с носовым платком.
Бабет смотрела в окно.
До чего же грустны ноябрьские сумерки в Штетине. А где они не грустны? Ах нет, в Штетине особенно! В Штетине они не имеют цвета, не имеют начала, не имеют конца. Так кажется.
Ветер выл.
«Самое гадкое, — подумала Фике, — когда воет ветер, или когда воет скрипка или собака. А другим людям почему-то скрипка и орган нравятся, а если воет собака, они сердятся». Фике это было непонятно, «Не все ли равно».
Бабет сказала:
— А теперь прочтем вечернюю молитву.
Девочка опустилась на колени. Но читать молитву она не смогла. Ее стал душить кашель. Пришлось взять Фике на руки и отнести на кровать.
Утром мягкой стопой вошел в комнату врач. Он был в красном плаще, в башмаках с тупыми носками и при шпаге. Но рассуждения порядочного в медицинских науках не имел.
Болезнь, начавшаяся рвотным кашлем и колотьями в левом боку и сильным жаром, имела бедственные следствия: у ребенка искривился позвоночник.
Врач в красном плаще входил и уходил мягкой стопой, а худенькое тельце имело вид зигзага: одно плечо встало над другим, под крайним коротким ребром образовалась впадина, правое бедро опустилось, а тонкая шея сломалась, как стебелек, и окостенела.
Круглые глаза Христиана-Августа обрели лошадиную задумчивость, Иоганна перестала говорить о брауншвейгских маскарадах.
Неслышно скользил по комнате мальчик с усыхающей ножкой.
Старый умный господин Больхаген сказал:
— Придется позвать палача. В Штетине только он один знает, как лечить такую болезнь.
Молодая женщина не решилась возражать. Она только разъяснила: «Конечно, ей бы не хотелось звать палача к кровати своей дочери, но так как в Штетине никто не знает, как приступить к ужасной болезни, то волей-неволей придется за ним послать».
На другой день, вместо врача в красном плаще, в комнату вошел палач.
Волосы висели у него по щекам, как собачьи уши. Рот был сухой, пасторский. Веки низкие. Из-под кафтана полувоенного покроя смотрела рубашка, очень белая.
Палач попросил, чтобы все оставили комнату.
Осмотр больной длился час и пятнадцать минут.
Читать дальше