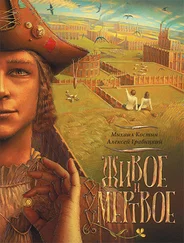— Какие у тебя глубокие глаза! — сказал Кубады. — Как пропасти! Бросить бы в эту пропасть тысячу Хорановых.
— А как ты измеришь глубину этих пропастей? — спросил путник, намекая на слепоту Кубады.
— Э-э-э, лаппу [27] Лаппу — мальчик, парень.
, зачем мне зрение, если я могу смотреть на мир своей музыкой. Лучше не видеть глазами истину, которой для нас не существует!
«Он упрекает меня за то, что я не пошел к бельгийцу».
Бега стоял в стороне, прислушиваясь к их разговору.
— Что же для тебя сыграть? — спросил Кубады.
— Сыграй песню об одиноком.
Бега, дети и путник забыли, что на свете существует голод и холод. Мурту, принесший Кубады кусок чурека, слушал, посасывая мизинец. Путник повторял про себя слова песни, переиначивая их на свой лад: «Прости, если отзвук рыданья услышишь ты в песне моей». И это уже было с ним. Его поразила встреча с переосмысленным, пережитым, но оставшимся навсегда в душе как незаживающая боль. «Прости, если отзвук рыданья…» Фандыр заглох, и старик погладил обросшую щеку одинокого путника.
— Ты просил песню об одиноком, но прости, если вместо песни услышал рыданье. Что делать, ма хур, веселее сердце петь не умеет.
Путник вздрогнул. Бега перестал мять свою шляпу.
— Ты настоящий владыка сердец, Кубады! — пробурчал он.
Путник достал мелкую серебряную монету и сунул в ладонь слепого.
— Зачем она мне? Может быть, Мурту отдать? Ведь он унес из дому ужин семьи!
— Прощай, сказитель! — путник с трудом приподнялся.
Он долго не мог оторвать взгляда от старика, точно запоминая, потом пошел тихим шагом, оставив тех, кто никогда не видел его, Коста, в глаза, но в трудную минуту пел его песни и угрожал обидчикам его именем.
Кто-то дернул его за руку. Обернувшись, Коста увидел перед собой сияющее, как пятак, лицо своего однофамильца, фотографа Садуллу Хетагурова.
— Готта, дорогой брат! — обнял его Садулла. — Когда же ты вернулся?
— Откуда?
Садулла расхохотался и дружески похлопал его по спине.
— Как откуда, Готта? Оттуда, куда посылают тех, кто отказывается есть кашу с молоком.
— А-а-а, оттуда? Оттуда я еще не вернулся, — ответил он рассеянно.
Ответ Коста ошарашил фотографа. Для него жизнь не была ссылкой, а собственный дом — тюрьмой. Он умел, как он сам говорил, вовремя смахнуть пылинку с фрака уаздана [28] Уаздан — представитель привилегированного сословия.
.
Фотографа Садуллу Хетагурова знал весь город. Да и сам он при случае «не прочь был похвастаться: «Я самого наместника фотографировал!» В нем бурлило неуемное тщеславие горца.
«Только в адатах не записано нашей фамилии», — любил он повторять. Пожалуй, и Коста он любил настолько, насколько это соответствовало его личным интересам. Впрочем, наверное, любовь была искренней. Когда знакомые приносили газеты и книги со стихами, статьями, сказаниями и рисунками Коста, он сиял от радости. Не потому, что напечатанное могло облегчить чью-то судьбу. Это его не волновало. А от сознания, что мог сказать: «Вот видели? Мой любимый, славный арвад [29] Арвад — брат.
».
Коста смотрел на Садуллу, нарядного, в белой накрахмаленной сорочке с черной бабочкой, на его рыжее драповое пальто и блестящие хромовые штиблеты. Садулла хороший парень, он его любил, но не мог преодолеть отчуждения при виде сытых глаз на холеном лице. Садулла же слишком уважал своего «брата», чтобы отнестись к нему безразлично. Лицо его мгновенно остыло.
— Как — не вернулся? А это что, твой двойник?
— Да. Сам я никогда не вернусь оттуда.
— Перестань шутить, Готта! Лучше давай отметим твое возвращение…
— Одолжи мне своего коня, — не дал он договорить Садулле.
У фотографа потемнело лицо.
— Зачем тебе конь, Готта?
— Мне надо ехать туда, — Коста махнул рукой куда-то в сторону.
— Куда? Туда, где находятся отказавшиеся есть кашу с молоком? — спросил он озабоченно.
— Нет, Садулла! Я иду туда, где смогу сбросить проклятый груз… Хоть на время, — прошептал он.
— А где ты сейчас такое место сыщешь, Готта? Не жар ли у тебя? — встрепенулся фотограф, приложив ладонь к его лбу. — Лоб у тебя ледяной!
— Я должен ехать к Чендзе и Леуа!
— К Чендзе и Леуа пусть едут наши враги!
— Им нечего там делать. Они заточили музыку в клетку…
— Клянусь, ты бредишь, Готта.
— Пусти меня, я пойду пешком.
— Я тебе хоть дилижанс снаряжу — только успокойся.
Коста полоснул фотографа взглядом.
Читать дальше