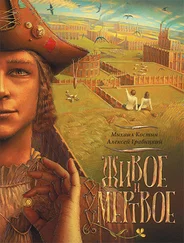Асинет сидела по левую сторону тамады. Ее мутило от его речей.
«Авксентию Хасакоевичу нужно бы обновить шпаргалку, до дырок протерлась бумага», — шепнула она сидевшему рядом Таймуразу.
«Сейчас будет приложение к шпаргалке, индивидуальные тосты выпускников и песни…» — ответил он.
«Тебе-то что, Таму! Ты и тост произнесешь, и песню споешь! А как мне быть? Ведь я не умею…»
«Ты как-нибудь выкрутишься. А вот Хадо…»
Кого-то из выпускников наградили ободряющими возгласами. Музыканты сыграли туш.
«Смотри, Таму, очередь дошла до Хадо! У него побледнело лицо… Может, ему плохо?» — сказала Асинет.
«Нет, Аси! Просто он не может выйти из тумана, которым его окутала смерть отца…»
«Как он любил своего отца…»
«Мы тоже хороши! Он работает, балагурит, а мы думаем, что все в порядке…»
«Смотри, кажется… кажется, он плачет!»
«Ничего, он справится и с собой, и с Авксентием Хасакоевичем!»
Хадо стоял в самом конце длинного стола, протянув вперед большой рог с вином, и выжидал паузу.
«Слово предоставляется выпускнику Хадо Кимыцовичу Дзесты», — торжественно объявил тамада.
«Товарищи! — почти шепотом сказал Хадо. — Я хочу поднять тост за наше вчера, которое дает нам уроки на завтра, за грусть, что живет с нами и заставляет нас быть людьми всегда и везде…»
«Э-э-э, Хадо, ты всегда любишь оригинальничать? Мы же пришли не на траурное заседание, а на праздник!» — сытое лицо тамады перекосилось, словно он съел неспелую сливу.
Хадо кашлянул в кулак и поднял полный рог еще выше. У него горели глаза.
«Я внимательно слушаю речи нашего наставника и думаю: какое же щедрое сердце у Авксентия Хасакоевича! Ведь даже сегодня, когда мы уже прошли путь длиной в десять лет и настал первый день самостоятельности, он не бросает нас на произвол судьбы и старается согреть теплом своей души так, чтоб это тепло грело нас всю жизнь!»
Лицо тамады расцвело, Хадо замолчал.
«Говори, Хадо, не стесняйся!» — подбодрил его тамада.
Кто-то захлопал в ладоши, Авксентий Хасакоевич мигнул музыкантам, и прозвучал туш, но Хадо, подняв рог с вином выше головы, махнул рукой:
«Я еще не все сказал… Спасибо, Авксентий Хасакоевич, за то, что вы развлекаете, веселите нас, но что делать, если мне, Хадо Дзесты, не хочется петь и танцевать?»
«Ты у нас отнимаешь много времени, а мне надо произнести еще семь тостов», — вставил Авксентий Хасакоевич.
«Пусть говорит!» — крикнул один из учителей.
«Говори, Хадо! Мы тебя слушаем!» — поддержал другой.
Воцарилась тишина, в руках Хадо дрожал рог.
«Я хотел произнести тост от имени тех, что шли впереди меня, от имени старших и младших, живых и не живых. — Голос Хадо тоже дрожал, и он говорил с большими паузами. — В начале войны мне было всего четыре года, и вы можете мне сказать, что я не имею морального права говорить о вещах, свидетелем которых не был… Но у меня есть товарищи. Им было тогда по двенадцать, они разрешали мне играть с ними в войну, и я запомнил многие печальные игры…»
Тамада смотрел на Хадо осоловелыми глазами, Хадо прижал рог к груди.
«Когда на родного дядю Заура — Гарси, заменившего ему отца, пришла черная бумага, Зауру и сыну Кудзага, Михе, уже было по четырнадцать, мне — шесть, а Таму и Асинет — четыре… Заур и Миха разрешили мне идти с ними по тяжкому иронвандагу… [14] Иронвандаг — иронский путь, старинный обряд оплакивания умерших.
Я помню, как они несли самый тяжелый груз из тех, что видели в жизни — черную бумагу, извещавшую о гибели Гарси… Мы ее похоронили не на аульском кладбище, а на укромном Переселенческом пригорке и поставили высокую каменную плиту…» — Хадо задыхался.
«Говори, Хадо!» — вырвалось у Асинет.
«Потом… пришла черная бумага на отца Таму, дядю Джета… потом… потом на мать, и мы их похоронили вместе, под общей плитой, рядом с дядей Гарси… Потом пришли друг за другом черные бумаги на Чоча Коцты, Гио Хугаты, родного дядю Миха Баграта… Слишком много стало этих пустых могил, где под высокими каменными плитами вместо тел погибших покоились клочки бумаг… Разве эти пустые могилы не дают нам уроки на завтра, и можем ли мы забыть о них? Я хотел сказать, что мы должны всегда помнить об этих пустых могилах. Я пью за это!» — закончил Хадо и забыл, что нужно осушить рог.
По щекам Асинет текли слезы. Таймураз успокаивал ее, но сам думал о том, что речь Хадо слишком угнетающе подействует не только на Асинет, но и на всю компанию.
«Собачьему укусу собачья шерсть да будет лекарством», — думал Таймураз. Он искал глазами Хадо, но его за столом не было.
Читать дальше