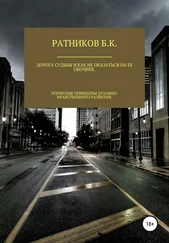— А ты пошёл бы?
— Отчего же... Мы люди не гордые.
— И не побоишься идти на большевистскую свадьбу?
— Не побоюсь, — уверенно ответил он. И добавил: — Зайди, брательник тебя дожидается.
Иван был не один. С ним рядом сидели уже знакомый солдат Лагутин и тот зловредный усач, которого так возненавидел Григорий, когда пришёл впервые вместе с Катей в батальон.
Иван встал, вышел навстречу Ростовцеву, поздоровался.
— Вот, — жестом указал он на солдат, — к тебе пришли за советом.
И увидев, как подозрительно смотрит Григорий на усатого, сказал, словно извиняясь:
— Ты на него зла не держи. Сам знаешь, время какое. Только его тоже выбрали для разговору с тобой. Конечно, Катя — девчонка славная, да ведь баба и есть баба...
— Она не баба, а член большевистской партии, её военной организации.
— Ну не сердись, разговор у нас с тобой мужской. — И, помявшись, добавил: — А вернее, не к тебе мы, а к Якову Михайловичу...
Усатый солдат встал и, переступив с ноги на ногу, заговорил первым. Там, в казарме, голос его показался Ростовцеву скрипучим и злобным, а сейчас он звучал тихо и степенно, даже приятно.
— Горюн я, Порфирием звать. Самарец я. Мы, самарцы, такие...
Ростовцев едва сдержал улыбку:
— Какие такие?
— Горячие.
— Ладно, горячий Порфирий. Слушаю тебя.
— Вот Иван нам всё одно и то же твердит. Про что бы ни заспорили мы у себя, он завсегда один ответ имеет: «Что Яков Михайлович сказал бы...» А мы того Якова Михайловича в глаза не видели. Вот и просьба к тебе: сделай нам разговор с ним. Вот как с тобой сейчас — с глазу на глаз.
Григорий посмотрел на Лагутина — а ты, мол, что скажешь, товарищ? Но Лагутин молчал.
— Товарищ Свердлов, — сказал Григорий, — в Цека работает, его там и разыскать можно. Во дворце Кшесинской.
— Вот и я им то же говорю, — подтвердил Лагутин.
— А к нам он пришёл бы? — спросил Горюн.
— Пригласите — придёт. Если только бузу не устроите. Как тогда.
...Иван вместе с Порфирием пришли к Якову Михайловичу.
— Постойте, постойте... Да ведь мы с вами встречались.
Этого Иван не ожидал — больше двух месяцев прошло, как виделись они. Честно говоря, Викулов не думал, что тот узнает его.
— Верно, Яков Михайлович. Я и есть. А это Порфирий Горюн.
— Ну, как ваши военные успехи? Впрочем, мне Ростовцев рассказывал о вас. Так чем могу быть полезным? Садитесь, рассказывайте.
Иван не знал, с чего начать, хотя ему было что рассказать Свердлову, и выпалил всё подряд:
— Беспокойно нынче в батальоне, по-иному смотрят солдаты на войну, письма приходят из дому тревожные и разные. Где отобрали землю у помещика, где имение сожгли, а где всё остаётся по-прежнему.
— Трудно жить стало, Яков Михайлович, — подытожил Горюн.
— Да, это верно, я тоже получаю письма из деревни. Пишут, что процветает там стихия, дикость.
— Темноты много, — согласился Горюн.
— Наш брат русский мужик, — добавил Иван, — чуть что — за топор хватается.
— Неужели? — улыбнулся Свердлов. — Ну да это не страшно. Много ещё темноты, много невежества. Наследие веков не исчезает в один день. К тому же нынешнее Временное правительство не собирается, как видно, отдавать крестьянину то, что ему принадлежит по праву, — землю. Вот он и хватается за топор.
— Это правильно, — согласился Горюн.
А Свердлов продолжал:
— Но, я думаю, унывать не следует. Докатятся волны подъёма и до самых глухих уголков, всколыхнутся, потянутся к новой жизни мужики.
— Эх, скорее бы, — мечтательно произнёс Порфирий Горюн.
— Да, — подхватил Свердлов. — Мы, большевики, направляем сейчас в деревню наших агитаторов, испытанных революционеров, чтобы рассказать крестьянам правду о земле, о революции, разъяснить аграрный вопрос, который рассматривался на недавней конференции. Уже поехали туда наши товарищи Володарский, Панюшкин — преданные, верные революции люди. А скоро вернутся в деревню и нынешние солдаты. Они многое повидали, многое поняли — кто им друг, а кто им враг.
— Вот-вот, Яков Михайлович, мы и хотели бы, чтоб вы рассказали солдатам об этом, — попросил Иван. — Очень здорово у вас это получается. Вы не хитрите, как другие, а прямо и честно, как тогда со мной у брата Никодима. Крепко вы меня... До смерти не забуду.
— Что же, можно. Непременно приду.
Дела, дела...
Судебная тяжба балерины Кшесинской по поводу её дворца совпала с другой акцией Временного правительства. Занятую рабочими в дни Февральской революции дачу бывшего царского министра Дурново было приказано очистить от посторонних лиц — выселить из неё рабочие организации.
Читать дальше
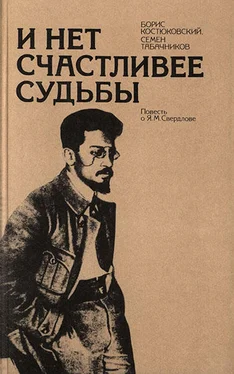




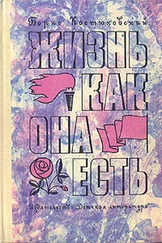





![Борис Лапин - Под счастливой звездой [повесть]](/books/395844/boris-lapin-pod-schastlivoj-zvezdoj-povest-thumb.webp)