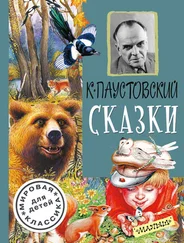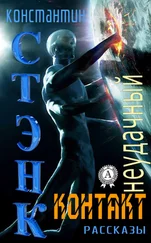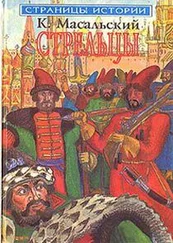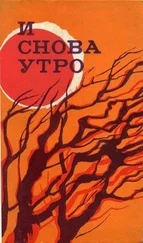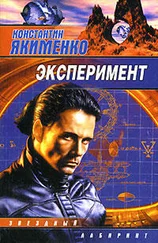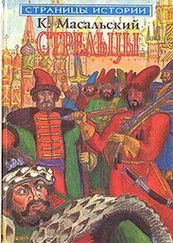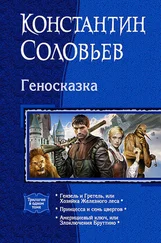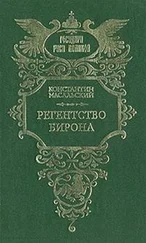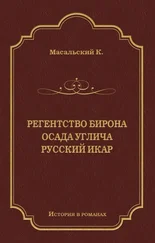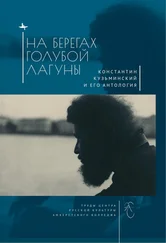Как бы там ни было, появление «Стрельцов» не только закрепило известность Масальского в среде профессиональных литераторов, не только упрочило его успех у русского читателя, но и принесло автору большие барыши. Служба между тем шла своим чередом. В 1828 году Масальский был назначен секретарем при председателе департамента законов Государственного совета. С марта 1832 г. он занимал должность экспедитора Государственной канцелярии.
В 1830-е годы Масальский — частый посетитель гостиных таких известных петербургских литераторов, как Н. И. Греч и А. Ф. Воейков. Встречавшийся с Масальским на многочисленных литературных вечерах В. П. Бурнашев вспоминал, что это был человек «скромный, кроткий, тихий, приветливый, крайне деликатный во всех своих поступках... Он имел тип очень приличного министерского чиновника, с формами необыкновенно мягкими, кроткими, учтивыми, но без вкрадчивости и заискивания, которых был чужд. <...> Масальский отличался движениями чрезвычайно систематическими и скорее медленными, чем проворными. Он был невелик ростом, приятной наружности, с тонким продолговатым носом a la Henri IV и с густыми каштановыми котлетообразными бакенбардами прежней формы, то есть покрывавшими полосой щеки от висков к губам. Говорил он весьма не громко, никогда не спорил, и на литературных сходках, где сплетня царила, он углублялся с трубкой в уголок, где вполголоса беседовал с кем-нибудь из тех посетителей сходки, с которым беседа могла быть для него приятна» [31] Русский вестник. 1871. № 10. С. 625 — 626.
.
В 1833 г. вышли еще две повести Масальского из эпохи Петра: «Русский Икар» и «Черный ящик». На их примере любопытно проследить, каким образом Масальский разрешал задачу внедрения исторического документа в художественный текст.
Автор «Стрельцов», отдавший значительную дань «быстрым повестям с романтическими переходами» (XIII, 180) (вспомним хотя бы V главу второй части «Стрельцов», где исчезновение Натальи из дома купца Лаптева, розыск ее решеточным приказчиком и, наконец, появление избавителя ее, Бурмистрова, сменяя друг друга с калейдоскопической скоростью, не раз заставляют обмирать сердце читателя), не мог не подвергнуться влиянию романтического направления и в манере подачи исторического материала. Романтики использовали подлинные документы в художественных произведениях, чтобы придать эффект достоверности изображаемым событиям, воссоздать колорит эпохи, а также — для «игры стилистическими контрастами» [32] Левкович Я. Л. Принципы документального повествования в исторической прозе пушкинской поры // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1969. Т. VI. С. 194 — 195.
.
«Русский Икар» основан на истинном происшествии. В записках чиновника и дипломата Ивана Афанасьевича Желябужского (1638 — после 1709) рассказывается: «Того ж месяца апреля в 30 день (1695 г. — А. Р, Д. С ) закричал мужик караул и сказал за собою государево слово, и приведен в Стрелецкий приказ и расспрашиван, а в расспросе сказал, что он, сделав крыле, станет летать, как журавль. И по указу великих государей сделал себе крыле слюдные, а стали те крыле в 18 рублев из государевой казны. И боярин князь Иван Борисович Троекуров с товарищи, и с иными прочими, вышед стал смотреть; и тот мужик те крыле устроя, по своей обыкности перекрестился, и стал мехи надымать, и хотел лететь, да не поднялся, и сказал, что он те крыле сделал тяжелы. И боярин на него кручинился, и тот мужик бил челом, чтоб ему сделать другие крыле иршеные из ирхи (выделанная наподобие замши овечья или козлиная шкура. — А. Р, Д. С. ), и на тех не полетел, а другие крыле стали в 5 рублев. И за то ему учинено наказанье: бит батоги снем рубашку, и те деньги велено доправить на нем и продать животы его и остатки» [33] Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1709. Спб., 1840. С. 46 — 47.
.
Масальский несколько механически привнес в описание этого события мотив любовного соперничества и, дабы изобразить на страницах повести императора Петра, сделал одного из героев участником второго азовского похода (1696). Критики отмечали неорганичность совмещения «сюжетов» Желябужского и Масальского в «Русском Икаре»: «Начало сей повести, основанной на историческом сказании, очень хорошо; окончание, кажется нам, ослабляет ее. Если бы автор не записал русского Икара в солдаты и не сделал из него какого-то богатыря, то он передал бы нам все простодушие рассказа Желябужского. За всем тем, многие подробности очень милы» [34] Московский телеграф. 1833. № 5. С. 100.
.
Читать дальше
![Константин Масальский Стрельцы [сборник] обложка книги](/books/389145/konstantin-masalskij-strelcy-sbornik-cover.webp)