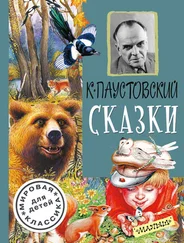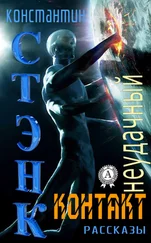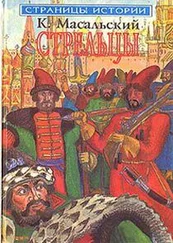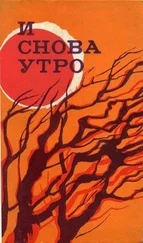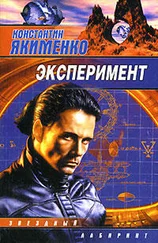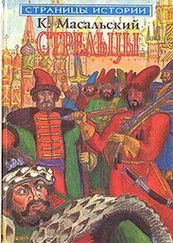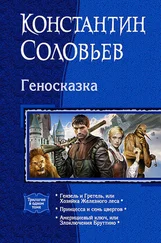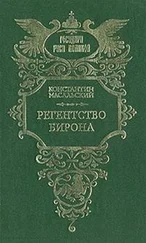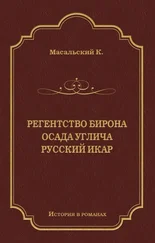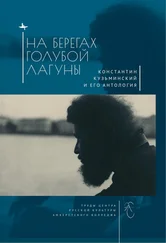Критика склонна была преуменьшать значение и мастерство «романического вымысла» в сравнении с «исторической частью» романов Масальского; ему советовали даже писать не повести, а научные исследования [22] См.: Москвитянин. 1844. Ч. II. № 3. С. 68 — 72.
. Но когда это привело к изданию «Стрельцов» 1886 года, сокращенных С. Брагинской за счет вымышленных происшествий, сохранившаяся беллетризованная историческая канва оказалась неудобочитаемой. За 150 с лишним лет оценочные критерии переменились. Если бесспорные художественные достоинства творений Масальского почти не потускнели со временем, то его историческая концепция царствований Софьи и Петра, его взгляд на причины и следствия стрелецких возмущений не соответствуют сегодняшнему уровню исторических знаний.
Великолепно исторически образованный, автор «Стрельцов» не вышел за рамки тех воззрений на события русской истории 1680 — 1700-х гг., которые господствовали в его время, да и в наши дни сохраняют во многом свою актуальность. Главнейшей особенностью этих воззрений является мотив восхваления Петра I, однозначное признание величайшей пользы его преобразований для России. Подобная оценка деятельности первого российского императора и его личности, во многом восходящая к 1740 — 1750-м гг., ко временам правления его дочери Елизаветы Петровны, разделялась на протяжении XIX — XX вв. не только писателями, поэтами, публицистами, но и такими выдающимися историками, как Н. Г. Устрялов, М. П. Погодин, С. М. Соловьев, М. М. Богословский. Естественным следствием апологии Петра I было принижение его политических противников, негативная оценка их действий и личностных качеств. Стремление возвысить значение петровских реформ, обосновать их целесообразность, насущную необходимость, с неизбежностью вело к созданию мрачной картины состояния России кануна преобразований. Ученые и литераторы, обращавшиеся к изучению русской жизни, 1670 — 1680-х гг., невольно оставляли без внимания интереснейшие явления духовной культуры этого времени, успехи, достигнутые в экономическом развитии страны. Господствующие панегирические представления о Петре ВЕЛИКОМ оказали воздействие и на оценку таких событий, как стрелецкое возмущение 1682 г. и отстранение от власти царевны Софьи в 1689 г. В широких кругах русского образованного общества XIX —XX вв. прочно утвердилась их трактовка, восходящая к свидетельствам либо самого Петра I, либо его приверженцев, к официальной пропаганде 1690 — 1720-х гг. Версии, созданные пристрастными современниками, превратились в стереотипы, во власти которых оказался далеко не один К. П. Масальский. Проступающая сквозь пелену этих стереотипов историческая действительность куда менее располагает к традиционным оценкам.
Возведение на престол малолетнего Петра в обход его старшего брата Ивана, осуществленное усилиями Нарышкиных 27 мая 1682 г., в день смерти царя Федора Алексеевича [23] В настоящее время выдвинута версия об отравлении царя Федора, весьма вероятно еще находившегося в живых в момент «избрания» Петра. См.: Чистякова Е. В., Богданов А. П. Да будет потомкам явлено... Очерки о русских историках второй половины XVII века и их трудах. М., 1988. С. 80.
, вызвало широкое недовольство при дворе и среди населения Москвы. Неспокойная обстановка, сложившаяся в столице к весне 1682 г., еще более осложненная разыгравшимся в Кремле острым конфликтом, вылилась 15 мая в кровавое стрелецкое выступление. Город оказался в руках восставших. В ситуации полной растерянности, беспомощности, проявленной руководством страны перед лицом мятежного гарнизона, единственным человеком, проявившим высокую твердость духа, сумевшим принять на себя ответственность за выход из тяжелого кризиса, оказалась царевна Софья. На протяжении лета и осени, благодаря умелым и решительным действиям царевны и ее сторонников, порядок в Москве был восстановлен. Не придворные интриги, не вымышленные в последующие времена тайные связи с мятежными стрельцами привели Софью к власти, а наступившее безвластие, грозившее полностью дестабилизировать обстановку в стране. Что же принесло России ее правление?
Обратимся к свидетельству современника. Примечательно оно тем, что исходит не от сторонника царевны Софьи, не от противника реформ первой четверти XVIII в., а от человека, на протяжении многих лет входившего в ближайшее окружение Петра I. Его автор — придворный 1680-х, боевой офицер 1690 — 1700-х, участник азовских походов, командир гвардейского Семеновского полка в Полтавскую битву, дипломат 1710 — 1720-х, посол в Англии, Голландии, Франции, один из руководителей внешней политики России в конце петровского царствования. Вот что писал на склоне лет действительный тайный советник князь Борис Иванович Куракин:
Читать дальше
![Константин Масальский Стрельцы [сборник] обложка книги](/books/389145/konstantin-masalskij-strelcy-sbornik-cover.webp)