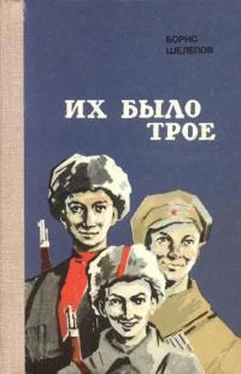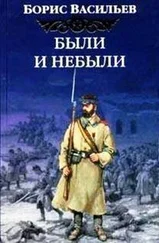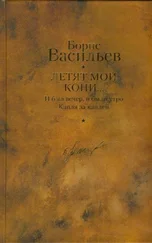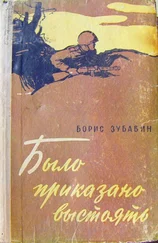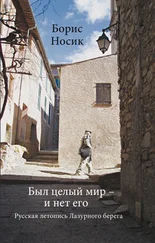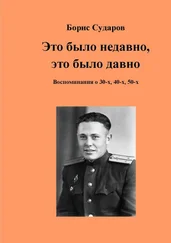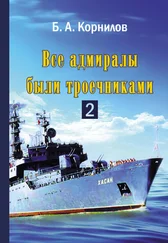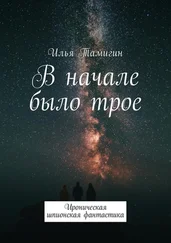1-я конно-механизированная группа получила приказ следовать на 2-й Украинский фронт. Предстоял отдых, а потом — снова поход.
Двигались по белорусской земле. Часто встречались эшелоны с партизанами. Они сражались рядом с гвардейцами Плиева в глубоких тылах врага, на Малой земле «внутреннего фронта».
Когда покидали пределы 1-го Белорусского, командир эскадрона Коля Бездольный повстречался со старым знакомым — заместителем начальника политотдела майором Павлом Алешиным.
— Теперь и о боях в Белоруссии можно писать без «маскировки». Передай мой привет в Орджоникидзе своей мамаше.
— …Спасибо, Павел Павлович, передам…
…Не получила бы работница «Электроцинка» Наталья Федоровна этого привета, если б не вынес из-под огня ее сына верный друг Василий Селиванов.
Возможно, не повел бы и генерал Плиев свои войска на новый фронт, если б не возникла вокруг него «живая стена» казаков во время бомбежки на берегу реки Вепш…
Никогда не забывали гвардейцы мудрый совет старых станичников. «Раньше всего выручай друга из беды, помогай товарищу в сражении, тогда и тебя не бросят воронам на расклев».
Глубокой осенью 1944 года войска 1-й гвардейской КМГ, находясь в составе 2-го Украинского фронта, провели Дебреценскую операцию, в результате которой противник лишился важных опорных пунктов обороны и узлов коммуникаций, связывающих будапештскую и трансильванскую группировки. Гитлеровское командование бросило в бой все свои резервы, но задержать стремительного наступления советских войск не могло. Конница и танковые соединения генерала Плиева, совершив обходной маневр в сочетании с фронтальной атакой крупных сил пехоты, 20 октября взяли Дебрецен, а 22 — Ньиредьхазу. Наши войска вышли в Венгерскую долину в междуречье Тиссы и Дуная. Тем самым были созданы возможности нанесения непосредственного удара на Будапештском направлении.
После этих сражений конно-механизированные соединения Группы были выведены на кратковременный отдых.
Стояли в укромных местах — как будто и нет войны: уют, тишина. Странно, непривычно…
Тут и поймал майор Голиков Закира Казиева. Несколько раз приезжал он в эскадрон, где служил Казиев. Старшина или писарь отвечали: «На задании» или «На рекогносцировке с командиром». А в блокноте Голикова — зампреда парткомиссии — давно значилась фамилия Казиева.
Речь пошла о приеме в ряды партии. Казиев говорил:
— Я ждал Гришу, он в медсанбате руку лечил. Нога прошла — руку зацепило. Теперь и рука зажила — левая, понимаешь.
— Так ведь сам ты не лежал в медсанбате? Почему заявление не подал? Оно давно у тебя написано, я точно знаю от капитана Браева.
— Верно, — отвечал Закир. — Точно знаешь, товарищ майор. А Браев тоже в медсанбат попал — это знаешь? Его в плечо зацепило — в Гродно.
— Знаю, но у него есть заместитель, — возражал Голиков. — А при чем тут Гриша?
— Мы, товарищ майор, договорились в один день и час поступить в партию, потому что больно хороший друг он. И я тоже, ничего. Понимаешь?
— Понимаю. — Майор улыбнулся. Он понимал и то, что Казиев говорит с ним на манер башкирского языка, в котором нет «вы», а есть только «ты».
В тот же вечер Закир и Гриша были приняты в ряды Коммунистической партии. Они явились в парткомиссию дивизии с орденами «Славы» третьей и второй степени (у того и другого) и с медалями «За отвагу». Оба подтянутые, шпоры начищены, чистые подворотнички: оба смуглые, загорелые, бритые, сияющие — «как два гвардейских значка, только что отчеканенных на монетном дворе», — сострил кто-то из казаков.
Как только вернулись в часть, сразу пошли к коновязям: один к Ястребу, другой — к Полумесяцу. «Если у нас сегодня праздник, то и вам — ласка». Подсыпали им овса из своего «нз», чистили их, холили, говорили теплые слова. Закир что-то по-башкирски шептал на ухо Полумесяцу, гладил по теплой бархатной морде. Праздник!..
Писали письма домой — сдержанные, без похвальбы и щедрых обещаний. Просто так: «Воюем помаленьку, в газетах пишут про нас хорошее, Родина довольна, а солдату большего и желать нечего!».
— Далеко мы живем друг от друга, — говорил Грицко Закиру. — Где она, твоя Башкирия? На самом верху где-то…
— Наша Бухара еще дальше, — вступил в разговор уже освоившийся в казачьей среде Рахим Калданов. — Зато мы здесь собрались вместе на большой сабантуй…
— Кем ты до войны был? — спросил кто-то.
— Коневодом. Передовой фермы. У нас коней по-своему зовут. Мне дали лошадь Крошку, я другое имя давал…
Читать дальше