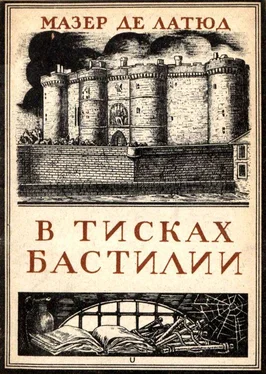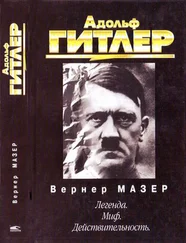Наконец, все было готово. Время, когда узников выводили на прогулку, мне было известно. Я угадывал его по стуку отпираемой и запираемой калитки.
Я воспользовался первым же моментом, когда увидел заключенного одного на прогулке, и просунул в пробоину палку, к концу которой привязал ленточку. Узник быстро заметил ее.
Он подошел, посмотрел и потянул веревку и палку, высовывавшиеся из дыры. Я крепко держал ее со своей стороны. Он, чувствуя сопротивление, не понимал в чем дело, не осмеливаясь даже предположить, что заключенный мог пробуравить стену своей камеры.
Тогда я сказал ему несколько слов.
— Кто это? Неужели дьявол говорит здесь со мной? — воскликнул он в испуге.
Я успокоил его страхи и завязал с ним беседу. Выслушав повесть о моих страданиях, он в свою очередь рассказал мне все о себе. Это был барон Венак, родом из Сен-Шели. Оказалось, что причина наших злоключений — одна и та же. Вся его вина, которую он искупал вот уже девятнадцать лет, состояла в том, что он доставил маркизе Помпадур какое-то сведение, касавшееся ее положения и задевшее ее самолюбие.
Общность наших несчастий сблизила нас. Мы условились принимать всяческие предосторожности, чтобы иметь возможность в будущем продолжать наши очаровательные беседы.
Таким же путем я установил знакомство почти со всеми узниками равелина.
Так я познакомился с бароном Виссеком. В первую минуту я подумал, что это один из моих родственников, но, к счастью, оказалось, что я ошибся. Маркиза Помпадур, по его словам, заключила его в тюрьму, заподозрив в том, что он дурно отозвался о ней. В течение семнадцати лет он задыхался в Венсене только за то, что имел несчастье внушить ей «подозрение». Он был болен и до того слаб, что едва держался на ногах. Наш разговор, по-видимому, доставил ему удовольствие. После нескольких свиданий я его больше не видал. Не знаю, умер ли он вскоре после этого, слабость ли помешала ему выходить из камеры, или же его выпустили на свободу. Последнее маловероятно, так как, судя по всему, его тоже заключили в Венсен, чтобы «забыть его навсегда».
Любопытна история еще одного узника равелина и стоит того, чтобы ее рассказать.
Один парижский священник, по имени Приер, задумал создать новую орфографию. Сущность его реформы состояла в том, чтобы употреблять при письме минимальное количество букв, а цель ее заключалась в экономии бумаги.
Этот человек (очень, впрочем, неглупый) решил написать о своем проекте прусскому королю. Он знал, что этот монарх покровительствовал талантам, и счел возможным почтительно предложить ему в дар свой труд. Письмо его было составлено по его оригинальной орфографии, что, конечно, сделало его совершенно непонятным. Согласно обычаям того времени, на почте оно было вскрыто.
Министры, по всей вероятности, ничего в нем не поняли и, испугавшись таинственного смысла иероглифов, препроводили автора их в Венсен. Он пробыл в крепости семь лет и умер.
Затем я познакомился с шевалье Ларошгеро, арестованным в Амстердаме «по подозрению» в том, что он написал будто бы брошюру против маркизы Помпадур. В течение двадцати трех лет он томился в неволе, а между тем, он был невиновен: он поклялся мне, что никогда даже не видел эту злополучную книжонку. Ему не представили при аресте никаких доказательств его вины, даже не удостоили его выслушать, лишив таким образом всякой возможности оправдаться.
Впрочем, точно так же поступали и со всеми другими.
Что же в таком случае делал Сартин во всех этих крепостях? — спросят меня. — Ведь его долг заключался в том, чтобы навещать узников, выслушивать их и судить!..
Да, таков был его долг. Но он был рабом своих страстей и самолюбия. Он знал и выполнял лишь те обязанности, которые могли привлечь к нему взгляды и восхищение толпы, Зачем ему было делать добро, если оно должно было остаться неизвестным? Зачем ему было проявлять благородство в стенах тюрьмы? Он приходил туда лишь для того, чтобы все знали о его посещениях и думали, что он заботится о заключенных и облегчает их участь.
Мне захотелось, как когда-то в Бастилии, писать своей кровью на таблетках, приготовленных из хлебного мякиша. Но в Венсене, в моем ужасном каземате, я был лишен даже и этой возможности: страшная сырость не давала затвердеть таблеткам. К тому же, я находился в полной темноте. В моем мрачном жилище не было ни одной щели, и ни один луч света не проникал в него. Воздух же попадал ко мне лишь сквозь замочные скважины четырех огромных дверей, заграждавших вход в мой могильный склеп.
Читать дальше