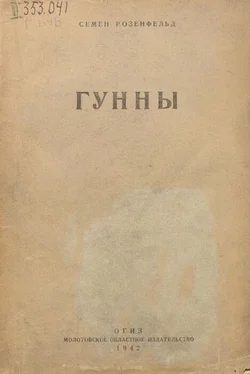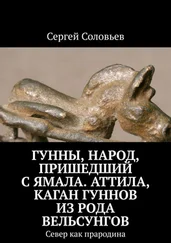— Ну, що скажете, граждане?.. — спросил Остап.
Люди поняли, что это старшой и, окружив его коня, перебивая друг друга, стали торопливо рассказывать о своих горестях.
— Нехай один говорит. Ну, хоть он!
Остап кивнул на пожилого, в большой соломенной шляпе, желтоусого, заросшего серо-рыжими колючками крестьянина, по глубоким морщинам которого текли полоски обильного пота.
— Не можно больше терпеть, — говорил он медленно, сдержанно, почти лениво, — сил никаких нема. Як вернулся пан Полянский, собрал он отряд, щоб экономию свою сохранять, а теперь волками по селам носятся та с другим отрядом, с офицерским, як ще встретятся — сказать не можно, що делают!..
Картина, ясная во всей своей безобразной наготе, быстро возникала перед глазами слушавших.
Помещик Полянский, бывший гвардейский полковник, вернувшись к себе в имение вместе с приходом немцев, организовал свой собственный отряд, состоящий из бывших офицеров, урядников, городовых, фельдфебелей. Сначала он «только» охранял свое поместье, потом начал помогать немцам собирать по селам продовольствие, сгонять крестьян на полевые работы, потом стал рыскать по уезду, разыскивая «большевиков, матросов и дезертиров», и, находя, тут же собственноручно расстреливал, вешал, порол. Он объявил свою шайку «карным загином» — карательным отрядом — и часто, особенно соединяясь с неизвестно откуда появившимся офицерским карательным отрядом, носился из волости в волость, из села в село, устраивал на майданах полевые суды, публичные казни и экзекуции, проводил реквизиции, накладывал контрибуции, поджигал дома «подозрительных», увозил неизвестно куда «опасных» и «чужих».
В селах всего уезда именем помещика Полянского пугали друг друга, его старались не вспоминать, и при крике: «Едут!..» — люди стремглав уносились в поля, прятались в хлебах, заползали в ложбины и яры, подолгу отсиживались в ближних рощах и речных камышах.
— Ось яка у нас жизнь! — заключал каждый раз после рассказа соседа старый, сутулый крестьянин с треугольным скуластым лицом и круглыми, как у птицы, светлыми глазами. — Ось яка жизнь!..
И так же, каждый раз одинаково, разводя руками, возражал ему другой ходок, медлительный и угрюмый:
— Яка ж это жизнь, это хуже смерти... — И в глазах его застывали тоска и недоумение.
— Не можно больше терпеть, не можно, — убедительно повторял основной рассказчик, желтоусый, обросший длинными рыже-серыми колючками крестьянин. — Не можно, хоть верьте, хоть не верьте!..
Долго шли молча между желтых несжатых полос.
И снова перед взором Остапа проплывали картины горящих деревень, ограбленных дворов, проходили ряды замученных, расстрелянных, повещенных крестьян, толпы мечущихся, осиротевших женщин и детей.
— Що же вы хотите, товарищи? — не поднимая головы, спрашивал он ходоков. — Зачем пришли?
— Подсобите, товарищи... К нам приходите... кончайте с панами...
— Що ж вы сами не подниметесь?
— Головы у нас нема.
— Нема того человека...
— Опять же — где взять оружие?
Смотрели в лицо Остапа просительно, выжидающе, будто в нем одном была их надежда и спасение.
— Добре, — сказал Остап, — повечеряйте, отдохните, ночью порешим все дела...
А ночью была забота о Ганне. Она то приходила в себя, то снова впадала в беспамятство. Напрасно Горпина прикладывала к горячей голове ее полотенце, смоченное в студеной ключевой воде, напрасно вливала в безвольный рот настой травы, известной Назару Суходоле еще от его предков запорожцев, напрасно гладил ее руки и нежно звал Остап, — она подолгу не откликалась или сквозь стоны выкрикивала бессвязные слова и странные звуки. Очнувшись, пугливо озиралась вокруг, горящими глазами всматривалась в лица, шептала что-то и снова впадала в забытье.
За семь верст гнали лошадей в ближайшее село, привезли знакомого фельдшера.
Фельдшер обжигал над огнем узкие ланцеты и говорил Остапу:
— Заражение крови у нее... плохо очень... Я расширю рану и прочищу... Иодом ее смажу... А там — все зависит от организма... Может и выживет...
Петро носился на рыжем своем жеребце по взбаламученному лагерю и передавал приказы Остапа.
Запрягали лошадей, выстраивали обоз, на выходе из леса вытянулась двумя длинными шеренгами пехота, четырехугольником темнела конница, в хвосте застыла батарея.
Остап молча стоял у черной брички, на которой лежала безучастная Ганна. Она больше не металась, не стонала и, казалось, спокойно уснула. Он наклонился над ней и долго, неотрывно всматривался в лицо ее, освещенное скупым мигающим светом железнодорожного фонаря.
Читать дальше