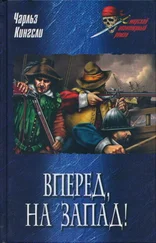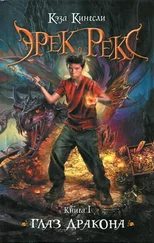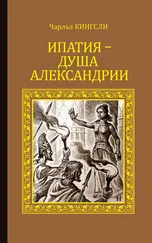– Прекраснейшая из муз, это была лишь моя плата за вход на Парнас [80]. Я твой должник и этим опаловым кольцом хотел бы погасить числящийся за мной долг. Что же касается пребывания под твоей крышей, – продолжал он еще тише и также по-сирийски, – то язычница Ипатия слишком прекрасна и может нарушить душевное спокойствие еврея Рафаэля.
И, сняв с пальца кольцо, подаренное Мириам, он подал его Ипатии.
– Не надо! – воскликнула девушка зардевшись, – я не могу его принять.
– Умоляю тебя, возьми его! Кольцо – мое последнее земное бремя, если не считать эту темницу из плоти и крови, в которой томится мой дух. Я вынужден настаивать на своей просьбе, потому что воины Гераклиана способны убить меня из-за этой драгоценности.
– Но неужели ты не можешь продать кольцо и бежать к Синезию? Он даст тебе приют.
– Этот гостеприимный непоседа? Правда, он даст мне приют, но лишит покоя. С таким же успехом я мог бы расположиться и в кратере Этны. Он будет говорить весь день и всю ночь, стараясь вбить мне в голову ту эклектическую смесь, которую ему угодно называть философским христианством. Но если ты ни в коем случае не хочешь взять кольцо, то я все-таки сумею быстро освободиться от него. Мы, восточные люди, умеем быть расточительными и сходить со сцены так, как приличествует владыкам мира.
И он обратился к толпе философов.
– Вот, господа представители Александрии, не желает ли какой-нибудь повеса сразу рассчитаться со всеми своими долгами? Это радуга Соломонова! Посмотрите, вот опал, еще невиданный в Александрии; тому, кто пожелает стать обладателем этого сокровища, стоимостью в десять тысяч золотых, придется выудить его из водосточной трубы, в которую я его бросаю.
Рафаэль хотел уже бросить драгоценность на мостовую, как вдруг кто-то схватил его за руку и вырвал кольцо. Молодой еврей гневно обернулся и увидел старую Мириам, глаза которой пылали яростью и презрением.
Собака мгновенно кинулась к горлу старухи, но попятилась, испуганная ее сверкающим взором.
Рафаэль позвал собаку и с невозмутимым видом обратился к разочарованным зрителям.
– Делать нечего, мои незадачливые друзья! Вам придется, кажется, подзанять денег, хотя после ухода нашего ненавистного здесь племени это будет гораздо труднее, чем раньше. Богини рока, правительницы вселенной, которым даже философы не могут противостоять, вернули прежнему владельцу эту чудную радугу Соломона. Прощай, царица философии! Если я найду Человека, то ты об этом услышишь. А с тобой, матушка, я хотел бы еще раз по-дружески побеседовать, прежде чем расстаться, – добавил Рафаэль и ушел вместе с Мириам.
Ипатия продолжала свой путь к музею. Она была смущена этой странной встречей и еще более потрясена заключительной сценой.
Она подавила свое волнение и ничем не обнаруживала его, пока, наконец, не осталась одна в небольшой приемной, находившейся возле аудитории.
Здесь она бросилась в кресло и, совершенно неожиданно для себя самой, почувствовала, что на ее глаза навернулись слезы.
Девушка-философ теряла в лице Рафаэля самого преданного ученика, а может быть даже своего единственного учителя. Она ясно понимала, что под личиной Силена [81]таилась натура, способная на то, о чем она едва осмеливалась помышлять.
Но кто же теперь мог заменить его? Не отец ли? Человек, увлекающийся исключительно математикой, ученый, для которого нет ничего дороже треугольника и конических сечений! Как жалки все они в сравнении с этим талантливым и дерзким евреем! Все они ткут изящную паутину, но мухи не хотят оставаться в ней. Они строят воздушные замки, но люди не находят в них приюта. Они проповедуют возвышенную нравственность, но их ученики и не думают приводить ее в жизнь.
Прошло несколько минут, Ипатия заставила себя успокоиться.
Она вытерла слезы и гордо шагнула в аудиторию. Под аплодисменты всех собравшихся поднялась она на кафедру и начала свою лекцию. Будут ли повиноваться ей эти слушатели? Станут ли они исполнять ее требования? Все равно. Ипатия прочитала половину лекции, прежде чем ей удалось овладеть собой и изгнать воспоминание о Рафаэле.
О чем же вещала девушка-философ?
– Истина! Где она, если не в душе человека? Факты, предметы – все это только призраки, сотканные из материи. Через покров чувственного восприятия постигаем мы духовную истину, которая таится под случайной оболочкой. Поэтому-то философ может пренебречь фактами ради идеи, скорлупой ради ядра, телом ради души, символом которой является плоть. Для философа безразлично, были ли образы Гектора и Приама, Елены [82]и Ахиллеса [83]когда-либо доступны людскому взору, обладали ли они обычными жизненными формами. Что нам за дело, так ли говорили они и мыслили, как вещал о них слепой певец? Возможно ли утверждать, что его дивная душа унизилась до описания действительно происходивших пиршеств, плясок, ночных разбоев, преданных собак и верных свинопасов? Унизительная мысль! Так может говорить только грубая, ограниченная чернь, способная ценить только то, что доступно осязанию и зрению. Если рассуждать так, то почему не поверить книгам христиан, рассказывающим о Божестве с руками и ногами, глазами и ушами, о Божестве, которое достигло совершенства, воплотившись в сына крестьянской девушки и осквернив себя потребностями, свойственными самым низким рабам…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу