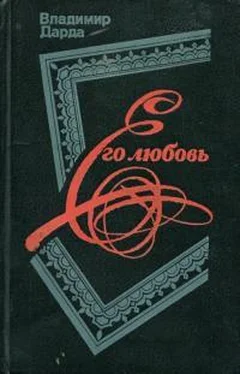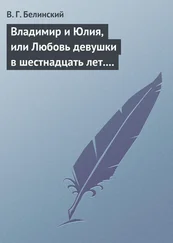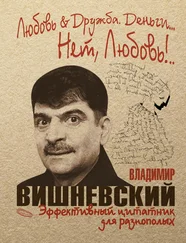— Не каждый способен такое выдержать… — сказал молодой старик, склонившись над Миколой. — Хорошо, если остался самим собой…
Эти слова вернули Миколу к мысли о Гордее: много ли смогли выбить из него эти неумолимые, размеренно жестокие удары увесистой дубинки? А вдруг он назвал того, о ком гестаповцы еще не знают?..
От бессилия Микола скрипнул зубами, и даже это сразу же отдалось в висках, во всей голове жгучей болью.
Лариса выдержала! Двадцатилетняя хрупкая девушка все вытерпела, все отрицала и даже смеялась врагу в лицо. Милая, самая красивая на свете, его Ларисонька терпела и молчала. А как же иначе! Каждому хорошо известно, что его ждет. И разве Гордей не понимал, что все равно умрет, сколько бы фамилий он ни назвал. Значит, не от смерти спасался тогда. А от чего же? От боли, которую не в силах был вытерпеть. Боль парализовала его сознание, и Гордей непроизвольно, не задумываясь о последствиях, соглашался на все, только бы сейчас избежать побоев. Но можно ли этим оправдать малодушие, измену — пусть даже невольную, даже мгновенную? Нет, нет и нет! И таким, как Гордей, как бы они ни объясняли свое падение, никогда никакого прощения быть не может.
Микола успокаивал себя: ведь его-то успели предупредить об аресте Гордея. Так же, наверно, предупредили и других, и все, кому угрожала, опасность, кого могли выдать под пытками, — должно быть, уже в лесу. От такого предположения стало немного легче, словно посветлело и перед глазами, и где-то в глубине души. Точно так же легче становилось на допросе, когда мысленно повторял про себя спасительное: «Мы победим, мы!..» И от этого — совсем неожиданно — все тело расслабилось физически ощутимо, как отходит занемевшее или отмороженное место. Слабость окутала мозг непривычно мягкой, приятной теплотой. Хотелось противиться этому погружению в небытие, этому обманчивому блаженству. Но в то же время Микола жаждал его. Так обессиленный, вконец уставший человек опускается на снег, чтобы хоть немного отдохнуть и, замерзая, ощущает не холод смерти, а манящую теплоту покоя.
Микола смежил налитые жгучим свинцом веки и сразу же погрузился в густоту мрака, будто вместе с глазами закрыл и те узкие щелочки, сквозь которые еще могло проникать в его душу что-то связанное с жизнью внешнего мира…
— Заснул… — Где-то далеко-далеко едва слышался тот же самый голос. Может быть, это пушистая густота бороды приглушает его. — Пускай поспит. Сон восстанавливает силы. А они ему так нужны…
Проспав несколько часов, Микола и впрямь почувствовал себя окрепшим. Хотя это и не очень-то радовало, потому что гестаповцы, казалось, только и ждали, когда он проснется. Едва он открыл глаза, как скрипнула дверь. Будто кто-то неустанно следил за ним. Мгновенно схватили и потащили на допрос.
Опять все тот же настойчивый вопрос — кто? — те же очные ставки; молчание Ларисы, уже с перебитой, безжизненно свисающей рукой, жалкие мольбы Гордея, уже окровавленного, в синяках. Все то же, только пытки другие: кроме ударов резиновой дубинкой по голове и прижигания кончиков пальцев еще иголки под ногти, ущемление и дробление пальцев дверью, истязание током. При одном только появлении палачей к горлу Миколы подступала тошнота. Он крепко стискивал зубы, дрожа от напряжения. Порой возникали в сознании лица родных, друзей, картины прошлого. А временами он окончательно проваливался во мрак, а очнувшись, опять видел то, из-за чего не стоило приходить в сознание.
Но хотя пытки становились все изощренней, боль от них как бы уменьшалась, притуплялась, потому что человек привыкает ко всему, даже к физической боли… А когда возвращался в камеру, боль утолял ледяной цементный пол, заменявший холодный компресс для жгучих ран и набухших синяков. Но это сразу, после побоев, а потом, когда жар спадал, этот пол превращался в коварного врага. Казалось, он может охладить навеки.
Микола старался собраться с силами, только бы преодолеть несвоевременное забытье, упрямо шевелил одеревеневшими руками и ногами, доверчиво прижимался к соседям, хотя и в них едва тлели остатки человеческого тепла. Тогда он протягивал окоченевшие руки к холодному, как кусок льда, лбу и яростно тер его, тер, едва шевеля замерзшими непослушными губами: «Все равно мы победим, мы!.. »
Кто знает, сколько бы это продолжалось, чем бы кончилось, если бы несколько дней спустя не был оглашен смертный приговор.
Смертный приговор!..
Оказывается, есть еще какая-то видимость закона, пускай формальная, если им, с первой минуты ареста обреченным на смерть, совершенно серьезно читают смертный приговор…
Читать дальше