Именно любовь толкала Енё навстречу опасности, перед которой он трепетал.
Он вышел на улицу совсем безоружный; он не думал о том, что будет делать там, внизу.
Возле порога дома его подхватил людской поток и понес с собою.
Он совершенно иным представлял себе этот поток, когда сидел взаперти в своей комнате.
Это была не свирепая, жаждущая крови людская река, а бурлящее радостью море.
Старые и молодые, имущие и неимущие, рыночные торговки и нарядные дамы, студенты и солдаты – все перемешались здесь, все обнимались, целовались, плакали, восторгались, размахивали руками, неистовствовали, до хрипоты выкрикивали одно и то же: «Свобода! Победа! Победа!» Листовки переходили из рук в руки, ораторов поднимали на плечи, заставляли их читать вслух последний императорский указ. а затем бросались обнимать и целовать чтеца; и так бурлила, звенела улица-поток, пока не приходили новые вести, не раздавались новые речи, не взрывался новый заряд радости и торжества. Люди кидались на шею солдатам, которые еще час назад стреляли в них из ружей, целовали умолкнувшие стволы пушек, кричали «ура» тому, кого недавно ненавидели и кем теперь восторгались только потому, что тот нацепил на шляпу белую кокарду, писали огромными буквами на стенах домов: «Собственность – свята!»
Енё и сам был захвачен этим радостным вихрем. Нет названия тому чувству, которое владеет в такие минуты толпой. Оно подобно электрическому току, и понять это может лишь тот, кто хоть однажды испытал его волшебную силу; хмель ликующего торжества проникнет в грудь даже того, кто ничего не смыслит в происходящем. Енё слушал, как люди со слезами радости на глазах восторженно говорили о падении государственных мужей, которые, казалось, навеки вошли в мировую историю. И Енё тоже проникся тем таинственным магнетизмом, которому трудно найти название, когда он услышал, что этих великих деятелей, словно строки, написанные мелом на доске, стер одним взмахом руки со страниц истории величайший из всех великих мира сего – народ.
Как объяснить то теплое, затопившее в ту минуту его юное сердце чувство, бороться с которым Енё не мог? Еще час назад все эти могущественные люди были его кумирами, и все же теперь, когда он услышал об их падении, кровь быстрее заструилась по его жилам.
Он поймал себя на том, что прислушивается к именам, которые многотысячная толпа встречает проклятьями и криками: «Pereat!». [46]Он каждый миг со страхом ожидал услышать имя Планкенхорст.
Он-то хорошо знал, как тесно было связано это имя с именами тех, остальных…
Может быть, до них еще не дошла очередь?
Впереди и сзади обсуждали события минувшего дня, восторгались тем, как народ штурмом брал дворцы ненавистных аристократов, как разорвали и развеяли по ветру проклятые протоколы и долговые бумаги. Но об Планкенхорст – никто ни слова.
Поток увлекал его все дальше. Окна некоторых домов были освещены лампами, а в темные окна летели с мостовой камни.
Прошло несколько часов, прежде чем он достиг той улицы, где стоял дом Планкенхорст.
Сердце его тревожно колотилось: что, если он найдет и этот дом пострадавшим, как пострадали многие другие здания?
Каково же было изумление Енё, когда, повернув за угол, он увидел прямо перед собой дворец Планкенхорст, залитый морем огней! На балконе, между двух белых шелковых полотнищ, между двух знамен, стоял какой-то студент, обращавшийся с пламенной речью к толпе.
Енё ничего не понимал.
Теперь его вело вперед одно лишь сердце. Голова кружилась.
Впрочем, он, собственно, не шел, его несли. Толпа вынесла его к ступеням дворца Планкенхорст; тут мужчины с сияющими лицами, потрясая в воздухе фуражками, украшенными белой кокардой, прославляли героических женщин, сторонниц свободы.
Енё втолкнули в хорошо знакомый ему зал.
Что ж он увидел?
Две дамы стояли «перед столом: их лица расплылись в такой широкой улыбке, что он с трудом узнал Антуанетту и Альфонсину.
Чем были заняты обе женщины?
Госпожа Антуанетта делала бантики из белого шелка, а Альфонсина прикрепляла их к фуражкам народных героев, прикалывала к мундирам, надевала белые повязки на рукава. И те, для кого она это делала, становились еще радостнее, еще счастливее, целовали ей руку, прикладывались губами к нарукавным лентам и даже к ножницам, которые она держала. Лица обеих дам сняли.
Но вот Енё вытолкнули вперед.
Как только Альфонсина увидела его, она, не раздумывая, бросилась к нему с радостным возгласом, раскрыла свои объятия, прижала юношу к себе, обвила руками его шею и, рыдая, пролепетала:
Читать дальше
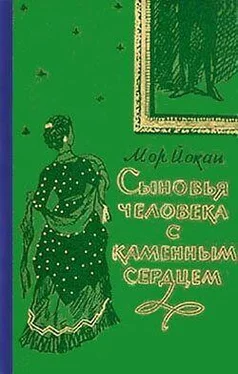








![Мор Йокаи - 20 000 лет подо льдом [Забытая палеонтологическая фантастика. Т. XXIII]](/books/416381/mor-jokai-20-000-let-podo-ldom-zabytaya-paleontol-thumb.webp)
