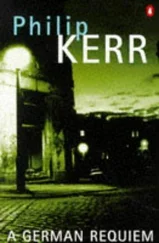Он стоял на краю пропасти, но уже не было того, ранее не раз испытанного упоения, ожидания предстоящего свободного полета. За его спиной на него надвигалось что-то темно-серое, бесформенное, но живое, жестокое в своей моллюсковой тупости. Он явственно ощущал зловонное, пахнувшее гнилой кровью, дыхание, настигавшего его страшилища. Он знал, что если его накроет эта бесформенная, бездушная масса, сожмет его грудь, он просто задохнется.
Потом, он был уверен, что этот костлявый, но тугой плотный скользкий слизистый монстр войдет в него, будет давить изнутри. Затем превратится в огромный, твердый, с крупной шероховатостью, застрявший в пищеводе, кочан обрушенной кукурузы, упирающийся в позвоночник тупой, стенающей, давящей и жгучей болью. Несмотря на то, что воздух, казалось, свободно проникал в его грудь, он задыхался, плотно укутанный все той же, уже почему-то черной, обволакивающей его, массой.
Убегая от чудовища, которое, он был уверен, было его концом, он угадал впереди зыбкий, легко обрушающийся берег обрыва, за которым чернела пропасть, затянутая густой прочной сетью в виде множества гигантских вертикальных рыболовных вершей, похожих на густые тюремные решетки.
Верши из тонкой лозы в его далеком детстве плел, работая сторожем на Одае, дед. На закате он бесшумно опускал их в воду вдоль плотины узкого, самого первого пруда. Каждое утро дед поднимал свои немудреные снасти, выбирая скудный улов.
Он твердо знал, что, попав в одну из черных, чудовищно раскрывших смертную пасть дьявольских воронок, он провалится в никуда. Выхода оттуда уже не будет, дыхание его окончательно будет перекрыто этой противной клейкой массой, которая неотвратно заполнит все его существо.
Во вязком черном кошмаре сна он скорее угадал, почувствовал, нежели увидел край пропасти, за которой уже не будет ничего. Не будет его, не будет восхода солнца. Никогда не увидит пронзительно голубого с оттенком бирюзы неба. Никогда не ощутит, вливающийся в грудь утренний прохладный тугой воздух. Он больше никогда не почувствует нагими стопами мягкую дорожную пыль детства, не ощутит, холодящей его босые ступни, обильной утренней росы. Не увидит на фоне багрово-оранжевого заката, вертикально спускающиеся, ветви-нити древних ракит. Не услышит приглашающе-повелительного, чуть протяжного звонкого:
— Де-ед!
Неслышно, незримо и неотвратимо его настигало равнодушное, молчаливое, то ли с порожними бездонными глазницами, то ли с бесцветными пустыми глазами, чудовище. В темноте он не видел этих страшных в своем безразличии глаз, но чувствовал неотрывно преследующий его взгляд затылком, всем своим существом.
Вдруг он ощутил, что правая его нога нависла над пропастью. Не остановиться! Не повернуть! Против воли левая, сегодня уже немощная, спотыкающаяся о самый низкий порожек, а когда-то его толчковая нога, которая легко переносила его в полете на другой берег четырех-метровой Куболты, чуть напряглась. Он лишь слегка потянулся в сонной истоме. Страха не стало. Без малейшего напряжения поднялся над черной бездной и… как в детстве… полетел.
Он летел легко, точно координируя свои движения. Незначительным движением плеч, поворотом головы, а то и одной волей он лавировал между огромными, еще недавно бывшими ярко зелеными и плодоносящими деревьями в его саду, в котором он жил и охаживал его долгие сорок пять лет. А сейчас эти опаленные безжизненные скелеты, подстерегая, угрожающе выставили навстречу ему, словно оленьи рога, свои бесчисленные черные, смертельно заостренные в пламени людской подлости, сухие сучья.
Неожиданно далеко внизу он увидел, множество, уплывающих назад, разных лестниц. Осталась позади старенькая, деревянная, с шаткими щеблями, прислоненная к задней стене старой, покрытой почти отвесной, почерневшей соломенной крышей, дедовой древней хаты.
Мельком проплыла и осталась далеко позади, узкая, сработанная отцом из единственной доски горбыля лесенка. Она вела в круглое, всегда открытое оконце, расположенного над свинной конурой, домашнего курятника. Поперек узкого горбыля для удобства курам отец набил жидкие жердочки из, разрезанных пополам, старых рамок для вощины. Той лестницей пользовались только куры и, тайком, когда не видели родители, он сам. Это было очень давно. Тогда он еще не ходил в школу. Тогда небо было гораздо выше, а цвет его отдавал бирюзой.
Далеко позади на самом дне пропасти проплыло назад множество разных, деревянных резных, мраморных с золочеными ажурными перилами, широких, устланных красными ковровыми дорожками, лестниц, ведущих, казалось, на самое небо. Мельком вспомнил, что всегда, почему-то, избегал соблазна ступить на ступеньку одной из таких лестниц, подняться на самый верх.
Читать дальше