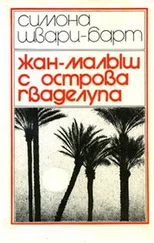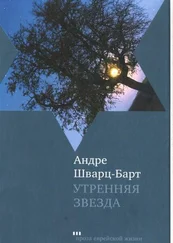— Хочешь, я выйду посмотреть? — спросил Мориц.
— Нет, нет, нельзя себе позволять такой роскоши… Ах, да, — вернулся он к начатому разговору, как все старики, с трудом вспоминая, на чем остановился. — Мы, кажется, говорили о Франции. Я не знаю, нужно ли вообще бежать. Завтра успокоятся немцы, и за меч Божий возьмутся французы. Много ли мы выиграли от того, что уехали из Земиоцка? Ибо сказано: «Нечестивцы — жезл гнева Божьего, бич в их руках есть Мое негодование». Все, что происходит, есть Божье наказание. Так чего же вы хотите? Избежать Его воли? (Благословенно имя Его во веки веков, аминь). Я знаю немцев — не совсем уж они дикари, это вам не украинцы. Немцы отнимут у нас все, но не жизнь. Вот я и говорю: терпение, дети мои, молитва и терпение.
Старик вдруг замолчал и бросил на дверь горестный взгляд.
— Нет, вы только послушайте его! «Я знаю немцев, не совсем они дикари, это вам не украинцы…» — взорвалась Юдифь. — Мужчины вечно так рассуждают! Тут хоть мир перевернись вверх дном, а они себе разглагольствуют как ни в чем не бывало! — распалялась она, стараясь заглушить в себе страх. — Вашими устами — да мед бы пить! Я, конечно, не такая умная, как ты, но провалиться мне на месте, если ты за весь вечер сказал хоть одно разумное слово. Чтоб меня холера взяла, если…
— Довольно, — оборвал Мордехай. — В такой вечер и так клясться… — оскорбленно проворчал он, теребя бороду.
Юдифь не осмелилась посмотреть ему в лицо, на котором было написано холодное еврейское отчаяние, но все же перегнулась через стол и по-матерински погладила старика по лбу.
— Ничего с ними не случится, — нежно пробормотала она, — я тебе ручаюсь. Что может случиться с детьми? Никогда больше не буду божиться, никогда! Я уже и сама жалею… Чтоб меня холера взяла, если я еще когда-нибудь стану божиться, — наивно добавила она в порыве искреннего раскаяния.
Мордехай огорченно пожал плечами.
— Божись, сколько тебе угодно, пожалуйста! — сказал он.
Он устало провел рукой по глазам и вдруг надавил на них огромными, как у дровосека, кулачищами, словно хотел спрятаться от света.
— Дети мои, — пробормотал он странным голосом, — дорогие мои дети, бывают дни, когда я и сам не понимаю, чего хочет Бог. Сколько наших женщин и детей замучено в Европе за эти тысячи лет! Нет, не Праведников, которые умирали спокойно, а простых смертных, испуганных агнцев, Зачем нужны страдания, — продолжал старик с горечью, — если они не служат во славу Его имени? Кому нужны бесполезные муки?
Тяжело вздохнув, старый еврей опомнился:
— Но не страдания ли человек… э… гм… приносит Богу? Благословенно имя его… Благословенно…
— Дорогой мой отец, — сокрушенно перебил Биньямин. — А кто говорит, что он не приносит? Если такова Его воля… Но я вижу, что мы просто жертвы нечестивцев, и больше ничего тут нет. Скажи мне, дорогой мой отец, разве цыпленок стремится прославить Создателя? Ты же знаешь, что цыпленок не хочет родиться цыпленком, не хочет, чтоб его зарезали и съели. Вот что я думаю относительно евреев.
— Мессия… — начал Мордехай без особой уверенности.
— Ой, Мессия. Мессия, — проникновенно сказала Муттер Юдифь, мечтательно качая головой. — Наверно, ты прав, наверно. Мессия вот-вот спустится на землю. Не сегодня, так завтра… Кто это может знать? Ой, как нам нужна помощь! А если не от него, так от кого же нам ее ждать? Знаете, мои дорогие, что-то чует мое сердце…
— Может, он уже за дверью? — сказала барышня Блюменталь, и все Леви машинально обернулись к Мессии.
10 ноября 1938 года в час двадцать ночи Иозеф Гейдрих, начальник тайной полиции, сообщил телеграфно во все отделения, что «следует ожидать» антиеврейских демонстраций на территории всего Третьего Рейха. А в два часа ночи в самом центре Штилленштадта под ледяное небо взвился первый пронзительный крик. Теплый клубок мирно спавшего города размотался и выкатился на улицы, освещенные десятками факелов, сверкавших над городом, как глаза, полные ненависти. Разыгрывался ночной карнавал. Сверху над евреями была пустота зимнего неба, а вокруг них клубилось преступление. Дома кричали, словно вели между собой какой-то адский диалог. На Ригенштрассе было светло, как днем. Будто в очистительном пламени пылали все еврейские библиотеки, какие только были на этой улице. Швейные машины, рулоны тканей и даже колыбель, приготовленная для последнего Леви, который должен был появиться на свет, — все, что находилось в мастерской Биньямина, валялось на тротуаре, все стало добычей грабителей. Биньямин, смотревший на все это через щелку в ставнях, больше всего огорчился тому, как он заявил, что среди погромщиков был его бывший заказчик.
Читать дальше

![Андре Шварц-Барт - Последний из праведников [Le Dernier des Justes]](/books/30712/andre-shvarc-thumb.webp)