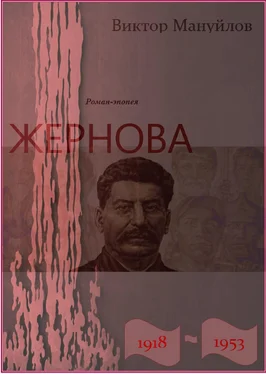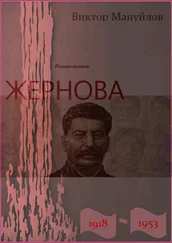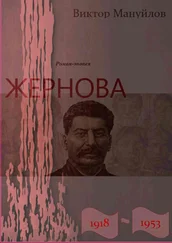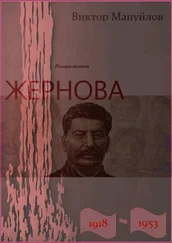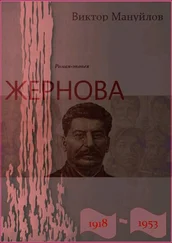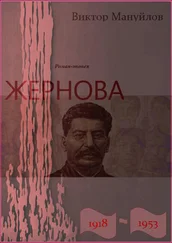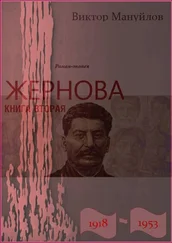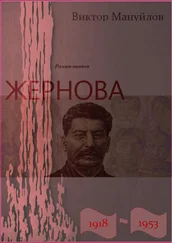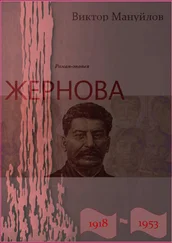Теперь путь наш лежал к озеру. Туда мы шли еще большей ватагой — со всей малышней и девчонками. Даже моя сестренка шла вместе с нами. Но скоро она стала хныкать и канючить, чтобы мы вернулись домой, а то она скажет маме, что я ходил на речку.
Я остановился в растерянности. И все остановились.
— Ты чего, — сказал Толька, подходя к Людмилке. — Ябедничать? А крапивы не хочешь?
О, Толька не знал моей сестренки! Она вдруг вся посинела, рот ее перекосило, и она как заревет, как заревет, да так громко и противно, что из травы вылетел чибис и полетел на другую сторону озера, жалобно спрашивая:
— Чьи вы? Чьи-чьи-чьи?
— Пойдем, — сказал я, беря Людмилку за руку, и она тотчас же перестала плакать и показала Тольке язык.
И все равно вечером Людмилка рассказала маме, что я ходил к реке и к озеру.
— Я же тебя просила, Витюша, — говорила мама жалобным голосом. — Ну что я буду делать, если с вами что-то случится? Хоть ложись и помирай. Придется ставить тебя в угол.
Я поворачиваюсь и молча иду в угол, за печку, потому что мне совсем не хочется, чтобы мама легла и померла.
Вскоре за печку пришла и мама, села на лавку рядом со мной и сказала, что она совсем не хотела ставить меня в угол, а хотела, чтобы я ее не огорчал. И стала гладить меня по голове, а когда меня гладят по голове и жалеют, я плачу. Хотя совсем этого не хочу. Оно получается как-то само собой.
Потом пришел папа. Он уже четыре дня ходит очень печальным оттого, что дядя Коля Земляков пал смертью храбрых. Поев картошки в мундирах с кислым молоком, папа вышел во двор, сел на завалинку и закурил самокрутку. Он курил, печалился, а я сидел рядом и тоже печалился, потому что маленький и не могу пойти на фронт воевать с гитлеровскими фашистами.
— Пап, а почему, когда смертью храбрых, тогда плачут? — спросил я осторожно, потому что папа может рассердиться, что я мешаю ему печалиться.
— Подрастешь, тогда и узнаешь, — сказал папа. Подумал хорошенько и пояснил: — Храбрых или не храбрых, а человека все равно нет.
В это время прямо над нами со свистом пролетела стая уток-чирков, сделала круг над озером и села на самую его середину.
— Вот что, — сказал папа. — Пойдем-ка к Третьяковым и попросим у них ружье. Может, удастся подстрелить утку.
— Пойдем, — с готовностью согласился я. — А они дадут?
— Дадут: я сегодня Кондрату ось выковал для телеги.
И мы пошли.
Я еще ни разу близко не подходил к избе Третьяковых: и дядя Кондрат, которого на деревне зовут Хромым Кондратом, казался мне слишком сердитым, и Митька Третьяков каким-то неправильным лоботрясом, и даже мама Тольки Третьякова, тетя Гриппа, тоже казалась мне сердитой теткой, а уж бабка их, по прозвищу Третьячиха, очень была похожа на нашу хозяйку, то есть ведьма ведьмой. Да и сама изба их выглядела совсем не так, как другие избы: низкорослая и кривоватая.
Я шел рядом с папой, держа его за руку. Мы обогнули кусты черемухи и бузины, прошли немного вдоль забора, подошли к калитке. За забором виднелся крытый навес, под навесом сложены колотые поленья, крылечко низенькое, всего в две ступеньки, за избой коровник, за коровником огород. По двору ходят гуси и куры, у забора стоит телега, на телеге сидит Толька, рядом с ним его младшие брат и сестра, на крыльце дед Третьяков чинит валенок, а Хромой Кондрат тюкает топором на затюканной колоде.
Откуда-то выскочил Морозко, такая белая собака с черным носом, и залаял на нас с папой, но не очень сердито, потому что мы не разбойники и живем рядом.
— Вечер добрый, — сказал мой папа, когда мы вошли в калитку, и Морозко перестал лаять.
Я тоже сказал «вечер добрый», хотя и не так громко. И дед, и Хромой Кондрат, и Толька тоже сказали «добрый вечер».
— Я к тебе, Кондратий Михалыч, — произнес мой папа, подходя к Толькиному отцу. — Просьба у меня к тебе: не дашь ли ружьишко уток пострелять, а то на одной картошке… сам понимаешь…
— Пошто ж не дать, — сказал дядя Кондрат и воткнул топор в затюканную колоду. — Дать-то можно, да патронов нетути. Митька, лоботряс этакий, все патроны пожег, ни одного не осталось. А нонче, сам знаешь, ни пороху, ни дроби, ни тебе пистонов — ничего в сельмаге нету. Такая вот хреновина.
— Да, конечно, — сказал мой папа и еще больше опечалился. — Война, ничего не поделаешь.
— То-то и оно, что война, — согласился дядя Кондрат, поглядел-поглядел на палку, которую тюкал топором, и пошел в коровник.
— Пойдем, сынок, — сказал мой папа, взял опять меня за руку, и мы вышли со двора.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу