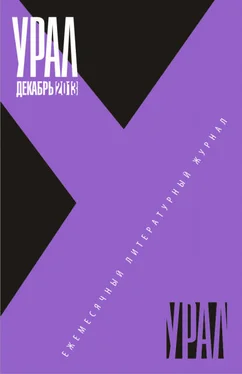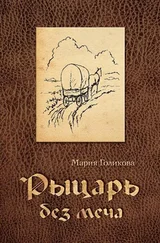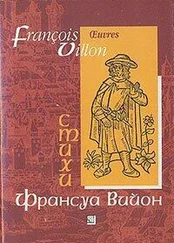— Вийона что, пытали? — спросил Жан-Мишель.
— Ну а как же? Коли ты попал в Шатле и запираешься, от этого не отвертеться… Знамо дело… Но иных хоть на части разорви — им всё нипочём. У нас много разбойников перебывало! Их и на дыбе растягивают так, что кожа лопается, и калёным железом жгут — а они всё равно не сознаются, только ругань стоит на всю тюрьму… А Вийон едва не загнулся на допросе, хотя досталось-то ему всего ничего — одна вода. Ни тебе дыбы, ни огня, так, пустяки…
— Как это делается? — проговорил Жан-Мишель.
— Да нешто вы не знаете?
— Вот не довелось.
— Это хорошо, что не довелось! — засмеялся Гарнье. — Это очень хорошо! Известно как! Привязывают вас к станку, ногами, значит, кверху, головой вниз… берут тряпку, засовывают в горло, нос накрывают тоже и льют на эту тряпку воду — тихонько, чтобы вы не совсем захлёбывались, а так, немножко… дышать-то тряпка не даёт почти, потому как разбухает от воды, и чтобы вдохнуть, воду глотать приходится… Это дело долгое, несколько часов так попьёте вниз головой — в чём угодно признаетесь… А Вийон долго не выдержал — у него через два часа горлом кровь пошла. Его в камеру всего в крови притащили… Я ведь убеждал его сразу признаться — но он ни в какую. Я, говорит, не виноват…
— Странно, — нахмурился Анри. — Без повода так давить не стали бы. На Вийона кто-то показал?
— Да нет, ему старое дело припомнили. Он мне рассказывал, что, когда был молодой совсем, его друзья да приятели, школяры, ограбили Наваррский коллеж — ну и его с собой позвали… Он пошёл, но грабить отказался, только на стрёме стоял, говорит… Так-то, конечно, был виноват, что не донёс, — но и только… Ну, потом кое-кого из воров арестовали, и один под пыткой указал на Вийона. А в Шатле Вийону то давнее дело и припомнили, так что на допросе признаний по обоим делам добивались — всё равно ведь ему крышка, виселица то бишь… Ну, стало быть, приговорили его к виселице, а он очухался — и опять за своё, говорит, жаловаться буду, апелляцию подам… Я ему — ну и подавай, коли быстро помереть не хочешь, коли тебе нравится медленно. Всё равно ведь, говорю, казнят тебя. А не казнят — тебе же хуже, сам загнёшься после нашего Шатле. А как иначе, если денег у тебя нет? Только ведь и умеешь, что стишки писать, — но стишки ещё никого не накормили да не обогрели… Ты, говорю, эти стишки бросай, все твои беды от них! Ишь, привык слова красиво складывать да выдумывать всякое — а судьям ведь это не нравится, когда выдумывают… Он прокашлялся и хрипит мне, что не врал на допросе, ни слова неправды не сказал и не оговорил никого! Так рассердился, что у него опять чуть горлом кровь не пошла. Ну почему ты, говорит, мне не веришь?! А я ему отвечаю — успокойся, мол, лежи тихо, я не о том… Верю я, отчего ж не поверить… Просто правдивым-то больше всех и достаётся! Нешто судьям правда нужна? Вот ведь чудак… Им нужно, чтобы их уважали, чтобы почтение к ним было, чтобы на их вопросы отвечали хорошо… А ты что? Учить их вздумал? Они этого ой как не любят. Надо было показать, что ты их боишься, что смирился… лишнего не говорить… А Вийон опять за своё — приподнялся на соломе и заявляет, что перед Богом всегда готов смириться, а перед этими подлецами — ни за что! Я ему говорю — а куда ты денешься? Куда тебе ещё ниже-то падать? Разве только в люк под виселицей… Ты, говорю, на себя посмотри, уже и встать не можешь, так тебя жизнь потрепала, — а всё гнёшь своё, про какое-то достоинство твердишь. У бедняка какое достоинство? Смех один… А он мне отвечает, что у всех оно есть, достоинство это, и надо его уважать… Бедный, мол, не хуже богатого, в каждом душа живая… Христос и апостолы тоже были бедняками… Хорошо, что этого никто не слыхал, ему бы не поздоровилось за такие слова. Придумал тоже — с Христом себя сравнивать! Я ему говорю — да ты никак бунтовать вздумал? А он отвечает, что и не собирался вовсе. Нет, я, говорит, прекрасно вижу, как мир устроен, мне объяснять не надо… Всё в нём хорошо и правильно, только я себе места почему-то найти не могу…
— А как Вийон выглядел? — спросил Жан-Мишель.
— Да обыкновенно… росту среднего, тощий, бледный, одет худо, как проходимец… Мне особенно глаза его запомнились, как сейчас их вижу — серые, быстрые, смешливые… А как рассердится, у него сразу глаза темнеют, сам весь подбирается, начинает горячиться, спорить, руками махать, — хотя ему бы тихо сидеть, с его-то здоровьем… Я ему всё повторял, что тебе, мол, лечиться надо, вон как ты кашляешь по ночам — стены трясутся… А он опять за своё, мне, говорит, главное — написать всё, что я хочу, а там — как Бог даст… Он и в тюрьме писал. Я думал, он после того допроса пролежит пластом до самой виселицы, а он, едва смог сидеть, потребовал бумаги и чернил… Ну, принёс я ему. А писал он ловко, быстро так! Сперва подал апелляцию, а потом начал стихи сочинять, одно за другим… Я ему не мешал, молча глядел — раньше-то никогда не видел, как стихи пишут… А вот руки у него были, как у знатных. Я, помню, всё на них удивлялся, даже спросил его однажды, откуда у тебя такие красивые пальцы, длинные, тонкие, — ты же безродный совсем.
Читать дальше