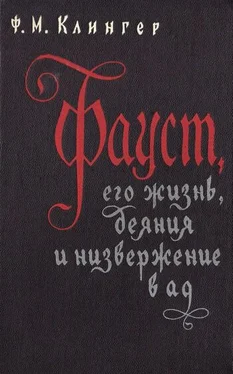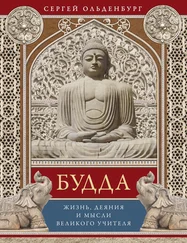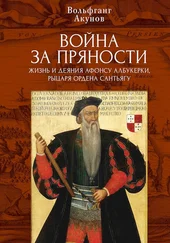Монах стоял между ними, как между двумя огнедышащими вулканами, смиренно прижимал руки к груди и умолял:
— Сжальтесь!
Ф а у с т: Слушай! Ты видишь на носу какого-нибудь молодого человека маленькую горбинку, которую ты раз и навсегда определил как признак чувственности, и ты объявляешь его сластолюбцем, даже если его мужские прелести величиной с горошину, а ягодицы впалые, как твои щеки. Самое существенное в характере мужчин и женщин находится в таком месте, о котором ты не имеешь представления, в которое ты не можешь сунуть свой нос и с которого не можешь срисовать силуэт, чтобы потом вырезать его из дерева. А ведь именно там кроется очень часто мера человеческой добродетели. Любовные конвульсии женщины приводят тебя в неземной восторг, ты видишь одухотворенность в глазах матроны, услаждающей свое воображение картинами плотской страсти. На челе юноши ты читаешь порыв к свершению благородного подвига, тогда как на самом деле у него просто львиный темперамент. Как же ты хочешь измерить духовную силу человека, если сам ты не испытал опасной, неистовой борьбы, которую она вызывает в человеческой душе? Как ты можешь определить, какой человек не устоит перед искушением, если ты сам довольствовался одними тенями? А что, если кто-нибудь вдруг вздумает перевести на язык здравого смысла все те цветистые фразы, которыми ты прикрываешь свою неопытность и свое невежество? Что останется от этого вздора, кроме мыльных пузырей?
Д ь я в о л: А что, если бы все эти тени, которыми ты украсил свою толстую книгу, явились тебе в своем подлинном виде, как сейчас являюсь тебе я? Я видел, что ты нарисовал и раскритиковал даже дьявола. Погляди на него воочию. Гляди на меня! Стоит лишь моей внутренней сущности отразиться на моем лице, как ты в ужасе откажешься от идеала, созданного твоей фантазией. Ты даже не заметил, как тот, перед кем ты преклонялся, вломился в твою овчарню и задушил твоих духовных ягнят. Видишь, каким сладострастием он дышит. А теперь подыми глаза, и ты сможешь рассказать своим поклонникам, что хоть одно существо ты узрел в его подлинном виде.
И, повернувшись к Фаусту спиной, дьявол, чтобы раскрыть свою сущность, предстал перед монахом во всей отвратности своего подлинного адского облика. Монах пал ниц. Приняв прежний вид, дьявол повернулся сначала к Фаусту, а затем опять к трепещущему монаху.
Д ь я в о л: Теперь рассказывай о том, как ты видел дьявола, и изображай его, если у тебя на то хватит смелости. Тебе часто пришлось бы таким же образом падать наземь, если бы ты мог видеть истинную природу тех, кого ты изобразил ангелами.
Ф а у с т: Оставайся глупцом и плоди глупцов. У разумных людей твои выдумки вызовут только отвращение и к тебе и к религии. Более успешно действовать на руку аду было бы невозможно. Одни тебя презирают, а другие перед тобой кривляются. Прощай!
От испуга монах лишился рассудка, но и в безумии продолжал писать, а читатели совершенно не замечали происшедшей в нем перемены, до такой степени его новые книги были похожи на прежние.
Вся эта история очень развеселила Фауста. И так как город уже порядком ему надоел, он отправился вместе с дьяволом в смеющуюся Францию.
Правда, Франция в то время еще не была той смеющейся страной, какой она стала впоследствии. Привычка подчиняться произволу, великих и сильных мира сего еще не так глубоко укоренилась в душах французов, чтобы они могли петь о своих страданиях {52} в остроумных уличных песенках и считать это достаточной местью. Когда Фауст и дьявол вступили на богатую землю этой страны, она стонала под гнетом Людовика XI {53} , трусливого и хитрого тирана, который первый назвал себя «христианнейшим» королем. Дьявол нарочно ничего заранее не рассказал о нем Фаусту, — он хотел сокрушать сердце своей жертвы постепенно, открывая перед нею все новые и новые мерзости. Чем ближе знакомился Фауст с жизнью, тем большие сомнения должно было по замыслу дьявола вызвать у него небо. Дьявол медленно готовил Фауста к последнему удару, самому ужасному из всех, когда-либо поражавших человека, отважно восставшего против пределов, коими ограничила наш горизонт рука всемогущего. К сожалению, человеческие деяния давали для этого замысла огромный материал, и люди более мудрые, чем Фауст, даже без всякого участия дьявола не раз терпели крушение, разбиваясь об эту опасную твердыню, если забывали, что покорность судьбе — первое требование, которое природа предъявляет к человеку. То же случалось с людьми, в основе характера которых не лежали доброта и снисходительность, ибо только нежное сияние этих добродетелей способно сделать более светлыми и отрадными мрачные картины жизни на земле. Есть особый мрачный и ядовитый атеизм чувства, который почти неизлечим, потому что для него всегда имеется достаточно кажущихся причин; он исходит из сердца, и притом из сердца человека, настроения и ощущения которого слишком остро отзываются на противоречивые явления нравственного и физического мира. Жар такого сердца не меньше изнуряет рассудок, чем лихорадка — тело тяжелораненого. По сравнению с этим атеизмом атеизм разума — просто вздор, ибо человек мыслящий ищет причины своих поступков, и это занятие неминуемо приводит его к пределам, за которыми человеческий дух уже бессилен; даже на самого смелого они налагают оковы, достаточно прочные, чтобы помешать ему ринуться в темное неведомое ничто. Все предупреждения тщетны; нравственный мир, так же как и политический, имеет и должен иметь своих мятежников. Они не навязывают нам учения о призрачном мосте, перекинутом из мира чувственного в мир интеллектуальный. Их жертвы призывают нас не забывать о косной самонадеянности нашего человеческого достоинства… Фауст знал о короле Франции только то, что он сам называл себя «христианнейшим», что он первый усмирил вассалов своего государства и утвердил над ними права короны. Фауст знал еще, что остальные дворы Европы боятся Людовика XI, ибо для него цель оправдывает все средства и не было еще случая, чтобы он сдержал слово вопреки собственной выгоде. Теперь Фаусту предстояло познакомиться со средствами, с помощью которых король достигал своей цели.
Читать дальше