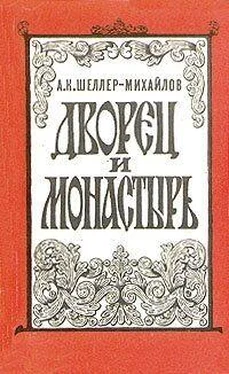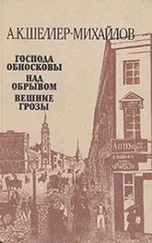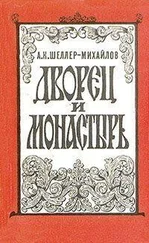Когда Филипп кончил, старец тихо спросил его:
– И не жалеешь о мире?
– Кажись, ни разу не пожалел, отче, – ответил Филипп и смолк.
Он глубоко задумался о чем-то, пораженный какой-то внезапно промелькнувшей в его голове мыслью, наконец, он поднял снова голову и решительно сказал:
– Нет, ни разу не пожалел я о мире! А вот что, отче, ину пору бывает. Работаю и молюсь я, а сердце вдруг заноет, затоскует, бежал бы куда-то от всех людей, не туда, не в покинутый мир, а в пустыню, далеко, далеко… даже отсюда…
Иона тихо проговорил:
– Подвигов великих жаждет душа.
Филипп горячо, почти с испугом возразил:
– Суетных желаний во мне нет, отче, видит Господь Бог; давно отогнал я их…
– Разве суетно желание больше угодить Богу? – серьезно и твердо заговорил Иона. – Нет, друже, душа, отдавшаяся на служение Господу, как жаворонок, прославляющий Божие утро, стремится подняться все выше и выше в пресветлое небо. Работаешь – мала кажется работа, молишься – недостаточна кажется молитва. Не суетность это, сын мой, а любовь к Богу и желание вознестись до светлого престола Его, до Него Самого.
Филиппа точно просветили внезапно эти слова. То, что так долго сокрушало его, как какой-то грех, то, чего он не мог уяснить сам себе, теперь стало ему совершенно ясно. Да, его душа неудовлетворена, ему хотелось сделать все больше и больше, не довольствуясь трудом, не довольствуясь молитвой.
Они смолкли, погрузившись в тихие думы. В келии было душно и томно. Сон как-то беспричинно бежал от глаз, и в душе была не то тягостная беспредметная тревога, не то щемящая безотчетная тоска. Кругом все было сначала тихо, потом где-то начал ворчливо и глухо грохотать гром и огненные зигзаги молний время от времени разрывали темные, клубившиеся в небе тучи.
– Ранняя ныне гроза собралась, – заметил, крестясь, Иона.
В эту минуту гром грянул так близко и рассыпался несколькими оглушительными ударами с такой силой, что старик проговорил со вздохом:
– Не прошел этот удар даром!
Затем снова все стихло на минуту. Только плакали где-то чайки. Вдруг их плач сделался тревожным, резким, послышалось где-то близко-близко хлопанье сотен крыльев.
– Что это наши птицы всполошились? – сказал Иона. – Не к добру это.
– Испугались чего-нибудь, – отвечал Филипп. – Не хищник ли какой налетел.
– Нет, ночь теперь…
– Так, может, ради грозы всполошились…
– Что им гроза! Не грешные люди – бояться им нечего…
Внезапно раздался новый звук, резкий и гулкий.
– В клепало бьют! – быстро проговорил Иона, поднимаясь на локте на постели. – Слышишь, Филипп? Набат…
Он торопливо поднялся со своего ложа, набожно осеняясь крестным знамением. Вскочил и Филипп. Через минуту они были уже на дворе и увидали страшную картину: монастырские здания были объяты огнем. Громадные языки пламени, выделяясь из клубов черного дыма, торопливо облизывали деревянные здания, и они горели, как свечи, быстро обугливаясь и разрушаясь. Сильный северный ветер, пробиравший до костей холодом, отрывал и подбрасывал головни, переносившиеся среди дыма на соседние постройки, которые загорались в свою очередь. По заборам и плетням огонь постепенно пробирался красными змейками, все увеличивая число горящих построек. Монахи, работники, все были на ногах, метались от горящих построек к берегу за водой. Некоторые из них, чувствуя невозможность бороться с огнем, отстаивая жилые помещения, устремились к церкви и часовням, чтобы спасти хотя их и святыни монастыря. В воздухе слышался треск горящего дерева, крики людей: "давай воды!", "тащи багры", "руби топором", – да жалобный крик чаек, тучами кружившихся в воздухе над огнем и домом. А в небе было уже совсем светло, гроза давно стихла, ветер угнал далеко-далеко черные тучи и румяная заря майского дня весело алела на востоке. Восходящее солнце озарило целые груды дымившихся головней, угодьев и пепла. Это были остатки Соловецкой обители. Монахи упали духом, плакали, стонали, не зная, где преклонить головы. В это время раздались мерные звуки клепала, призывавшего к заутрени.
– Вот где преклоним головы наши, – набожно и твердо сказал Иона. – Бог дал, Бог и взял земные сокровища, но не лишил нас своего прибежища.
Вся масса оставшегося без крова народа, еще носившая следы недавнего бедствия, закопченная дымом, обожженная огнем, в изодранных одеждах, смоченная водою, направилась в уцелевшую небольшую церковь на молитву.
Настало горячее время для Соловецкого монастыря. С одной стороны, нужно было торопливо обстраиваться, с другой – весенние полевые и огородные работы не могли ждать. Руки требовались везде, и каждый делал чуть не десять дел. Везде слышались удары топоров, везде визжали пилы. Там, где были недавно груды черных головней и пепла, начали весело белеть новые бревенчатые срубы. Игумен Алексей сам являлся ежедневно на постройки, подбадривал всех, распоряжался всем. Он был человек довольно хозяйственный и домовитый и умел практически управлять несложными еще монастырскими делами, хотя и не отличался ни широкими замыслами, ни серьезными знаниями. Он являлся только охранителем старины и заботился о том, чтобы при нем все шло так, как шло прежде. Такие люди могут поддерживать старые порядки, но никогда не являются создателями новых порядков. Известив прямого начальника обители новгородского архиепископа Макария о постигнувшем обитель несчастии, игумен получил из Москвы радостную весть. Государь царь и великий князь Иван Васильевич жаловал игумену Алексею с братиею в Соловецкий монастырь евангелие в полдесть [21], поводочное [22]червчатым [23]бархатом, на верхней доске распятие и евангелисты серебряные, белые, небольшие, да апостол в полдесть же, поволочен камкою [24]зеленою, да еще разных простых книг двадцать две; также пожаловал деревню при реке Шишне, пустошь, называемую Сухой Наволок, и острова, лежащие по обе стороны реки Выга: Дасугею и Рахново с рыбными ловлями и с оброчными соляными варницами, исключительно обежной [25]дани, а земли во всех этих местах имелось тридцать луков [26]или двадцать шесть обж [27]… К концу лета лихорадочная деятельность по постройке монастырских зданий кончилась и монастырская жизнь, однообразная, и неизменная, вступила снова в свои права. Опять стали короче дни, опять начали показываться ледяные глыбы, грозившие отрезать монастырь от всякого сообщения с миром. Филипп, неутомимо по-прежнему, почти все время проводил за кузнечной работой или в хлебопекарне. Как часто среди работы, при виде яркого пламени, задумывался он о другом пламени – о геенне огненной, уготованной грешникам, и, подавляя в себе всякие проявления страстей, всякие помыслы о более широкой деятельности, смиренно твердил слова Давида:
Читать дальше