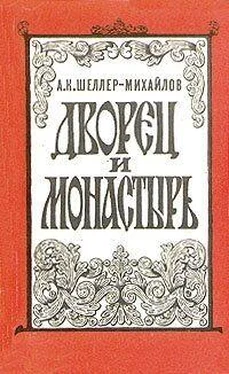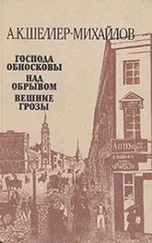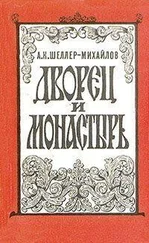Он начал неторопливо слагать с себя эти знаки своего сана.
– Я более не митрополит, – сказал он наконец. И, обращаясь к духовенству, он прибавил:
– А вам, святители, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, иереи и все духовные отцы, оставляю повеление: пасите стадо ваше, памятуя, что за него вы ответчики перед Богом. Бойтесь убивающих душу больше, чем убивающих тело. Предаю себя и душу свою в руки Господа!
Спокойный и невозмутимый, он повернулся к дверям, намереваясь уйти из собора. Царь повелительно крикнул ему:
– Остановись! Хитро ты придумал, чернец, от суда уйти! Не тебе судить самого себя, дожидайся суда других и осуждения!
Он указал Филиппу на сложенные им знаки митрополичьего сана.
– Надевай снова одежду свою да служи обедню в Михайлов день!
Митрополит, не возражая, не колеблясь, надел снова клобук и мантию и взял свой жезл. Его спокойствие приводило царя в еще большую ярость, чем могли бы сделать это всякие возражения. Окружающие перешептывались и доказывали царю, что именно это невозможное спокойствие митрополита и есть явный признак его мятежного духа. Царь зловеще молчал и не говорил ни духовным лицам, ни боярам, что он думает предпринять далее.
Вернувшись во дворец, он призвал к себе своих любимых опричников и начал с ними таинственную беседу. Он делал распоряжение относительно участи митрополита. Среди этих бесед он неожиданно спросил:
– А что на Москве? Тихо?
– С чего ей не быть тихой? – ответил Малюта Скуратов. – Забились все в норы, словно кроты.
Царь Иван Васильевич подозрительно посмотрел на него.
– За митрополита-то своего, видно, не думают вступаться? – сказал он и вздохнул. – Не раз тоже мятежи затевали. В сиротстве моем, без отца и матери, всякие обиды мне чинили. Бабку мою покойницу, княгиню Анну Глинскую, растерзать хотели, дядю, князя Глинского, в храме Божием убили.
– Что было, то быльем поросло, – проговорил Малюта Скуратов. – Не такие теперь времена, государь. Да и на что твои верные слуги, как не на то, чтобы Москва дохнуть не смела против тебя?
Царь Иван Васильевич усмехнулся злой усмешкой:
– Вот посмотрим, каково Москва любит Филиппа. И прибавил:
– А наготове будьте!
– Мы за тебя, государь, в огонь и в воду! – гаркнули все. Царь одобрительно кивнул головой, но тревога в подозрительной больной душе не утихла. Хотелось, чтобы скорей настал Михайлов день. Не верилось, что этот день пройдет мирно, и в беспокойном уме уже рисовались картины всеобщей резни, усмирение мятежа. Несмотря на все прежние опыты, все еще казалось, что Москва не вполне усмирена и повергнута к ногам его. Слишком много крамол и мятежей хранила его память, хорошо знакомая с историей московского государства, которое созидалось и превращалось в сильную державу среди долголетней борьбы с уделами, с боярами.
В Михайлов день все в Москве узнали, что митрополит сам будет служить обедню в соборе, и толпы хлынули в Успенский храм. Всех охватила какая-то смутная, радостная надежда, что Бог пронес грозу мимо владыки. Не служил бы он, если бы был осужден.
Началось в соборе облачение митрополита, и, наконец, он в святительских ризах предстал перед алтарем. Внезапно в эту торжественную минуту раздался шум, и в распахнувшиеся двери хлынула толпа вооруженных опричников. Народ в ужасе расступился и очистил им дорогу, пятясь от них, как от прокаженных. Впереди всех шел отец молодого Басманова. В руках у него был какой-то свиток. Басманов направился прямо к владыке.
– От государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея России за тобой прислан, – объявил он Филиппу.
Потом обратился к одному из стоявших около него опричников и приказал:
– Читай приговор!
Тот взял из рук Басманова свиток и стал во всеуслышание читать его. Говорилось в грамоте, что приговором суда всего духовенства, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и иереев московский митрополит Филипп за его измены и мятежи лишается своего сана.
В церкви царствовало гробовое молчание среди народа, охваченного ужасом и горем. Громко и внятно читал опричник все возводимые на святителя клеветы: за все то, что приписывалось, его лишали митрополичьего звания. Приговор был прочитан.
Басманов махнул рукою, и по этому знаку опричники с остервенением бросились на Филиппа, как дикие звери на жертву. Они стали срывать с Филиппа митру [42], святительские одежды, бросая их на церковный помост. Кто-то притащил вылинявшую, разодранную, покрытую сотнями заплат монашескую рясу, и начали ее напяливать на владыку, издеваясь над ним. Филипп стоял неподвижно, спокойно, его лицо было светло, взоры обращались то на иконы, то на народ. Он был счастлив сознанием, что принимает за правое дело мученический венец. Кое-где уже слышались вопли и рыдания. Они достигли слуха митрополита. Он как бы очнулся от светлого сна.
Читать дальше