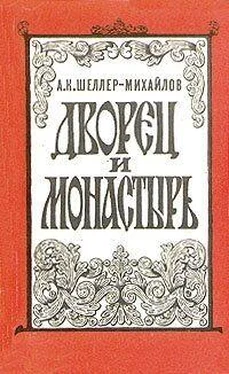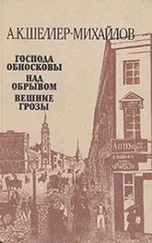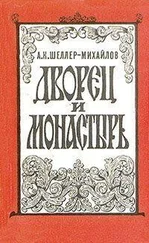Паисий сидел, опустив на грудь голову. Его охватывал ужас перед ожидавшими его муками. И разве спасет он Филиппа, примет за него муки? Пафнутий, точно угадывая его мысли, проговорил, поднимаясь с места:
– Оно, конечно, государь и так все знает, а только хочет еще вас порасспросить. Как-никак, а в Москву придется вас везти.
Он вышел из келий Паисия и прошел к своим сотоварищам.
– Ну, что, добились чего-нибудь? – спросил он их.
– Чего тут добьешься, – сердито сказал князь Темкин. – В Москве добились бы. Так не везти же весь монастырь туда.
– Зачем весь. Довольно Паисия да двух-трех старцев, – ответил Пафнутий, отирая с лица крупный пот. – Надо переждать денек, авось либо отец Паисий вспомнит, что говаривал Филипп.
Паисий действительно вспомнил внезапно многое, Зосима-старец, дрожа, как в лихорадке, тоже припомнил немалое, нашлось и еще несколько старцев, готовых говорить требуемую от них правду. Все они были крайне жалки, дрожали от страха, чуть не плакали, готовясь к справедливому обличению того, о котором трудно было сказать хоть одно дурное слово. Московские посланцы обрадовались, почувствовав, что у них гора свалилась с плеч: они знали, что вернуться в Москву без свидетелей и без улик для них значило то же, что положить под топоры головы. Царь не пощадил бы их, как ослушников его воли и изменников. Они спасали свои головы.
В четверг, 4 ноября 1568 года, в Москве царствовала зловещая тишина. Никогда еще граждан не охватывало такое удрученное настроение, как теперь, и никто тем не менее не осмеливался даже говорить громко о том, что тяготило и смущало всех. Все видели, что в Успенский собор собирается духовенство, едут именитые князья и бояре; все знали, зачем они едут, и только тайно вздыхали да молились, чтобы Бог пронес беду. Беда была велика: царь Иван Васильевич, выслушав все доносы против митрополита Филиппа, собрав все улики против него, решился устроить против него торжественный суд в Успенском соборе. Никто не сомневался, что доносы и улики были наглой ложью, но все в то же время знали, что на суде всей этой лжи придадут значение истины и так или иначе обвинят подсудимого.
Духовенство и бояре с царем Иваном Васильевичем во главе собрались в Успенском соборе и торжественно в полном молчании уселись по местам. Первенствовал на суде новгородский владыка Пимен. Никогда еще он не чувствовал себя более сильным и счастливым, чем теперь. Он сознавал, что его враг, незначительный настоятель Соловецкой обители, вдруг сделавшийся московским митрополитом, обречен на гибель, а ему самому открывается место митрополита московского. Он был старшим из всех владык, к нему благоволил теперь царь. Все окружающие тоже смотрели на Пимена, как на преемника Филипппа, и более чем когда-нибудь боялись возвысить голос за последнего. Во времена великого князя Василия Ивановича еще были среди духовенства такие смельчаки, которые подали голос против самого великого князя даже в таком деле, как его развод. Теперь эта пора прошла без возвратно, и царь Иван Васильевич знал, что все будут говорить то, чего потребует он, несмотря на то, что среди этой массы людей многие были убеждены в невиновности владыки Отсутствовали на суде только доносчики и клеветники, так как главные враги Филиппа побоялись на первый раз очной ставки их и митрополита Его уменье влиять на людей было очевидно даже для них, и он мог смутить доносчиков, особенно Паисия. Зарождался в мелких душах и суеверный страх не чародей ли Филипп, не это ли придает ему смелости?
Его ввели в собор в полном облачении и поставили перед судьями
Обвинители заговорили поочередно, исчисляя его вины. Пимен, Пафнутий, Феодосий, князь Гемкин, все эти лица старались отличиться друг перед другом, обличая митрополита в враждебных замыслах против царя, перебивая друг друга в своем усердии перед царем. И бегство из Москвы во время казней Колычевых, и приветливые прием Сильвестра, и заступничество за земцев, и нападки на опричнину, все ставилось в вину митрополиту. Филипп молчал: ему было не в чем и не для чего оправдываться. Все, что он слышал из уст врагов, было ложью, ложью и только ложью. С колыбели преданный московским самодержавцам, он мог огорчаться поведением царя, недостойным высокого царского сана, но мятежником он не был и не мог быть.
Наконец обвинители смолкли, точно утомились лгать. Тогда митрополит поднял голову и обратился к царю.
– Государь, – заговорил он ровным голосом, – не думай, что я боюсь тебя, что я боюсь смерти за правое дело. Мне уже шестьдесят лет. Я жил от юности честно и беспорочно, не знав в пустынной жизни ни мятежных страстей, ни мирских козней. Так хочу и душу мою предать Богу, судье твоему и моему. Лучше мне принять венец невинного мученика, чем быть митрополитом, безмолвно смотря на мучительство и беззаконие. Я творю тебе угодное: вот мой жезл, вот мой белый клобук, вот моя мантия…
Читать дальше