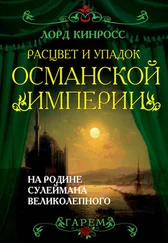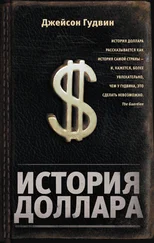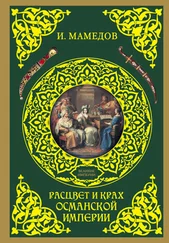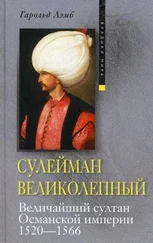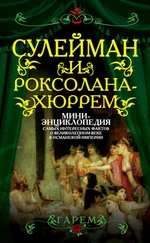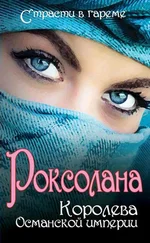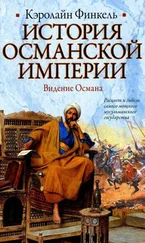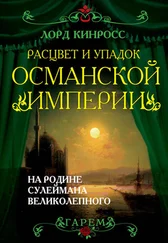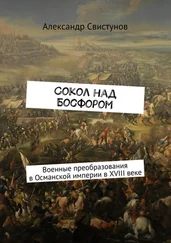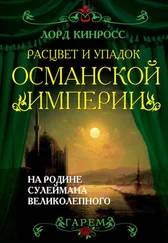Махмуд умер 1 июля 1839 года, в разгар так называемого Восточного кризиса: Ибрагим-паша разбил османскую армию в Сирии, и Мухаммед Али объявил, что отныне будет править Египтом как независимый суверен. Шестнадцатилетнему наследнику Махмуда Абдул-Меджиду предстояло поставить внутреннюю политику империи в зависимость от воли великих держав, что впоследствии так угнетало его детей — четырех последних османских султанов. В 1839 году в обмен на ультиматум, выдвинутый державами Мухаммеду Али (ему предлагалось удовольствоваться титулом наследственного наместника Египта), султан издал Гюльханейский хатт-и-шериф («священный указ») — эдикт о реформах, оглашенный в одном из павильонов нижних садов Топкапы в присутствии министров и иностранных послов. Хатти-шериф гарантировал неприкосновенность жизни, собственности и достоинства всех подданных империи, отмену откупного налогообложения, всеобщую воинскую обязанность, честное и открытое судопроизводство и равенство всех перед законом. Составители документа даже осмелились использовать слово «нововведение», которое было ненавистно религиозным фанатикам, ибо разве не сказал Пророк, что «всякое нововведение есть ошибка, а каждая ошибка ведет в адское пламя»?
Иностранные союзники султана перешли к действиям: в 1840 году англичане изгнали Ибрагим-пашу из Сирии и подвергли обстрелу Александрию. Мухаммед Али вывел войска с Крита и из Аравии, согласился на титул наследственного наместника и вскоре, весной 1849 года, умер — через несколько месяцев после своего сына Ибрагим-паши. В 1850 году его внук Аббас Хильми встретился с султаном на Родосе и принес ему клятву верности. Четыре года спустя кризис случился на другой окраине империи: русские отказались вывести войска из дунайских княжеств, оккупированных в 1848-м. Памятуя о стремлении Российской империи к господству над Черным морем и проливами, Англия и Франция вступили в союз с Портой и объявили русским войну. Война эта, вошедшая в историю как Крымская, завершилась 30 марта 1856 года заключением Парижского мирного договора, который незначительно изменил границы и обязал все подписавшие его стороны «уважать независимость и территориальную целостность Османской империи». На бумаге это выглядело гораздо более великодушно, чем условия договора, примерно в то же время навязанного западными странами другой обветшавшей империи — Китайской. Однако Китай тогда еще не стал ареной соперничества между великими державами; кроме того, он не был настолько скован экономическими требованиями Запада, как Османская империя, которая была в долгу как в шелку. Расходы на войну и реформы Танзимата, а также любовь Абдул-Меджида к роскошным дворцам и празднествам вынудили империю сделать ряд разорительных займов на европейских рынках.
Хотя Уркварт однажды и познакомился с одним престарелым албанским беем, который уверял, что рад переменам, и корпел над французским, подавляющее большинство людей, воспитанных в мусульманских традициях, реформы шокировали. Централизация власти в условиях растущей дороговизны (а представителям европеизированной элиты полагалось иметь гостиный гарнитур, ездить в карете и носить сшитые по мерке костюмы) неизбежно вела к усилению коррупции. Новая форма одежды не просто оскорбляла вкус благочестивых мусульман. Начиная с 1829 года только представителям улемы было позволено носить халат и тюрбан — но ведь тюрбан был отличительным признаком правоверного, и теперь люди на улицах не знали, кто есть кто, и не могли приветствовать друг друга, не опасаясь совершить богохульство. Со стороны новая картина жизни казалась более упорядоченной и стройной, но на самом деле была полна внутреннего смятения и замешательства. Гости из-за границы продолжали писать о величайшей вежливости и врожденных хороших манерах местных жителей («Джентльмен ведет себя по отношению к другому джентльмену с такой предупредительностью, с какой в Европе он вел бы себя по отношению к даме») — однако чем дальше, чем чаще они отмечали, что все это верно скорее для старшего поколения (и совсем неверно для греков).
Некоторые политические реформы проводились из самых лучших побуждений, другие — просто для отвода глаз; за пределами Стамбула и те и другие часто игнорировались, неправильно истолковывались или оказывались совершенно неосуществимыми. Концепция равенства всех людей перед законом вне зависимости от вероисповедания не имела смысла в традиционной исламской картине мира и лишь пошатнула авторитет властей. В 1814 году Генри Холланд был счастлив получить от Али-паши паспорт с устрашающей надписью «Поступай по сему, иначе будешь пожран Змеем»: он, как и сам Али-паша, понимал, что это документ необычный, но действенный, и он в самом деле помог путешественнику добраться до Монастира. Однако Эдвард Лир, в 1848 году набивший карманы целой кипой официальных паспортов и рекомендательных писем, чтобы проехать по Албании, вскоре обнаружил, что достаточно показывать любую бумажку, «хоть счет из отеля миссис Дансфорд на Мальте». Работе наиболее либеральных институтов постоянно препятствовали самовластные действия султана. Всякого, кто слишком буквально воспринимал реформистскую риторику и чересчур рьяно брался за дело, забывая, где он находится, неминуемо ждало наказание — ссылка. Выросло целое поколение людей, осознанно напичканных западными идеями, но вынужденных постоянно делить их на приемлемые и опасные, и интуитивно определять, какой приказ действительно следует исполнять, а какой — не более чем пустые прекраснодушные словеса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
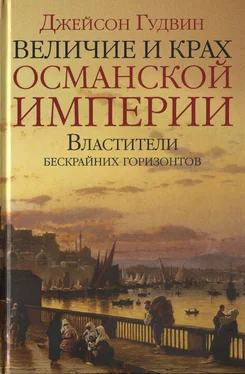
![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)