Пинечке всплакивал во мраке пушки, тихо‚ жалостливо‚ сиротливо. В тайниках тела всплакивала его душа. Голос плачущего слышнее в ночи‚ плач в ночи прилипчив и заразителен. И захныкали дети в колыбельках: Абеле–Ханеле‚ Береле–Переле. Зарыдали их матери в поисках утешения. Комком в горле задавились отцы. Теснило грудь‚ вздохами сотрясало тела‚ сокрушало сердца от обид–притеснений. А там уж заплакали по окрестностям‚ близким к Пинечке и от Пинечке далеким. Прокатилось по свету‚ перешло рубежи‚ перевалило границы: горько вопили сыны Израиля в бесконечной ночи изгнания‚ щедрые проливали слезы до выпадения ресниц. "Опустели дороги‚ и нет больше путников. Тень изгнания легла на нас‚ и по бурелому путь наш лежит. Больные‚ истощенные‚ всеми позабытые‚ мы не имеем значения среди других народов‚ и это про нас сказано: "Утром просишь‚ чтобы настал вечер‚ а придет вечер – не дождешься утра..."
Льву не плакать перед шакалом. Учителю перед учеником. Царю перед служителем. И Всевышний – из тайного Своего укрытия – две слезы уронил в Великий океан. "Что же теперь с миром делать? С миром‚ который Я сотворил?" – "Найдем для него иное применение"‚ – ответили ангелы-хвастуны‚ Шемхазай и Азаэль.
Пинечке проснулся поздно‚ очень поздно‚ когда солнце уже поднялось над площадью и с интересом заглядывало в дуло.
– Доброе утро Тебе‚ Властелин Вселенной.
Прислушался – тихо.
Ни звука‚ ни отклика.
Никто не прокашлялся на этот раз и не запел в нем радостно и во весь голос.
Подступал новый день‚ в котором не было для Пинечке чудес‚ и он заскулил в огорчении.
Пинечке – "Всё как у людей".
6
Три вещи хороши в малых количествах и невозможны в больших: дрожжи‚ соль и сомнение.
Поутру начались сомнения по домам‚ постепенно переходящие в панику. Все уже знали о случившемся‚ а кто не знал – догадывался. Евреи столпились возле пушки на почтительном отдалении; даже Фрима-вдова прибежала от печи и слезу пустила на пухлые щеки‚ расставаясь с мечтой о Пинечке‚ которому не повести ее под свадебный балдахин.
– Он жив‚ – говорил Меерке‚ не желая терять жениха. – Вот увидите. Он жив! Мы еще потанцуем на его свадьбе.
– Он мертв‚ – говорил Липечке – "Опять неудача". – Поверьте мне. Он мертв! Еврей‚ который пропустил утреннюю молитву‚ мертвый еврей.
Но если Пинечке мертв‚ надо срочно нести его на кладбище‚ и Мотке Шамес скажет привычно: "Как день уходит и не возвращается..."‚ и бесприютная душа станет порхать над могилой‚ словно привязанная‚ пока не истлеет тело‚ то‚ единственное‚ родное обиталище‚ знакомое до последней бородавочки и потертости на сгибе‚ убежище от холода и врагов‚ в котором жизнь прожита‚ песнь выпета‚ боль прочувствована‚ любовь испытана‚ ласка земная‚ восторг небесный. Старую рубаху и то жалко выбрасывать‚ а уж о теле и говорить нечего.
Но если душа еще в Пинечке‚ как же его хоронить?..
Спросить бы у реб Ицеле‚ да кто потревожит больного‚ который начал лишь поправляться и не доел тарелку бульона? Пахучего‚ наваристого‚ целительного бульона из лучшего цыпленка в городе‚ который сготовили искусные стряпухи Ципеле‚ Миреле и Фейгеле.
Бочком пришагала из степи караульная будка и встала на прежнее место‚ как застеснялась. Запел изнутри Ваничке, инвалидный солдат‚ будто всё нипочем:
– Солдатушки в Москву‚ а девушки в тоску... Солдатушки за лесок‚ а девушки в голосок...
Но уверенности в голосе не было.
– Ваничке‚ ты где был?
– Гостью провожал, – ответил Ваничке с заминкой. – Зайт гезунт‚ идн! Не смотрите‚ что босой‚ завлекаю всех красой...
– Как же ты‚ Ваничке‚ живым человеком стретльнул?
Скрипнула дверь.
Ваничке вышел из будки и потупился:
– Голова – дело наживное. Был у нас замыкающий во фрунте‚ храбрый солдат Яшка Хренов – не велик чин. Прилетело ядро‚ оторвало голову и застряло у Яшки на плечах‚ как надобно быть. Он так потом и служил‚ с ядром вместо головы‚ и хоть бы что. Кашу ел‚ сапоги драил‚ глядел зорко да плевал метко.
Тут Пинечке высунулся из дула‚ и все отступили на шаг.
– Ты жив? – спросили из толпы.
– Не знаю.
– О! – сказал Липечке. – Надо хоронить.
– Ты мертв? – еще спросили.
– Не думаю.
– О! – сказал сват Меерке. – Надо женить.
Пинечке глядел поверху на этот мир‚ но праздника в душе не было‚ радости–восторга‚ и ладони не подставлялись ковшиком‚ чтобы плеснули в них по утру цветов с травами и птиц с облаками. Заглохла песня в душе‚ как не было‚ и мир посерел‚ завял‚ морщинками посекся от дряблости. Потянутся взамен серые‚ усталые дни‚ повалятся на сторону пустой шелухой‚ сметутся в кучу бесполезных недель: отгрести и забыть.
Читать дальше
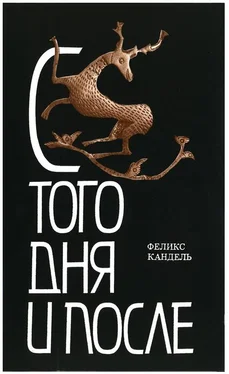

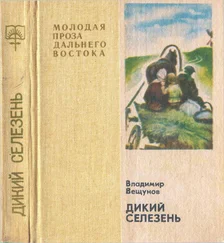
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/books/216144/anatolij-zemlyanskij-posle-grada-malenkie-povesti-thumb.webp)
![Никита Поляков - Последний день зимы (сборник стихов) [СИ]](/books/416007/nikita-polyakov-poslednij-den-zimy-sbornik-stihov-thumb.webp)
![Станислав Славич - Три ялтинских зимы [Повесть]](/books/421116/stanislav-slavich-tri-yaltinskih-zimy-povest-thumb.webp)






